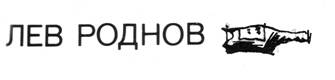
рисунки сделал Александр БАЛТИН
(опубликовано в
литературном журнале СП «Луч», №3-4, 1997 г.)

"Единожды
солгавший, кто тебе поверит?"
Библия
Сегодня время нашей юности принято
называть"безвременьем". Как мы жили тогда? Времени,действительно, не замечали:
кто-то писал картины, кто-то разводился, кто-то влюблялся, кто-то вглухую пил
от
безнадежности найти
себя. Но я хочу сказать спасибо тем дням и ночам, потому что они были нашей
общей жизнью, и, барахтаясь в ее грязи, каждый мечтал о Полете. Вечном и
непрерывном. Потому что время для Вечности -- бессмысленно.
Думаю, следует
сразу объясниться, почему именно "пантеон". Потому, что мы начинали
жизнь с "сотворения мира" -- сотворения своего собственного мира. С
нуля. Наша компания, как и многие такие же компании в иных местах, не верили ни
во что -- ни в черта, ни в бога; давно рухнули стереотипные "идеалы",
данные средней советской школой, а других -- не было. И, сплотившись горстками
вокруг кухонных столов с дешевым портвейном, мы на многие годы создавали
замкнутый круг проблем, плачей и радостей, падений и покаяний. Мы, конечно,
были не похожи друг на друга вблизи: у каждого свое имя, своя коронка в жизни.
И все же. Мы были -- одно целое. Потому что варились вместе в адском котле
безвременья, где реальность превращалась в иллюзии и наоборот. Мы почему-то не
вписывались в стабильную систему тогдашнего быта и удовлетворения. Чуяли: живем
-- НЕ ТАК. А как нужно жить
по-настоящему?
Никто не знал. И мы жили как умели -- сами себе и боги, сами себе и судьи. Из
ночных побегов из дому, из ссор с женщинами и друзьями, из разливанного моря
вина, из страха и бесшабашности -- из всего этого переплетения желаний, благих
намерений, подлости и благородства -- и
выросли наши
отдельные судьбы, наши отдельные идеалы. Мы были богами и дьяволами на своих
прокуренных кухнях! Богами и дьяволами в своей вынужденной замкнутости.
И вот я оглядываюсь назад и вижу лица
друзей -- весь пантеон! -- громовержцев, венер, гермесов, прометеев... Такими
мы казались себе тогда в опьянении алкоголем и смертельно беспечной юности.
Грустно и смешно теперь оглядываться.

Квадратный метр и
офицерская шинель
...Во втором часу ночи во входную
дверь квартиры сначала кто-то бухнул, а потом раздался короткий, жалящий
звонок. Первой проснулась жена и тут же двинула нервным кулачком под ребра. За
те полгода, что мы прожили в законном ведении совместного хозяйства, шаг от
любви до ненависти был уже сделан.
-- Вставай, скотина. Это опять к тебе.
Я встал, подтянул трусы и, включив в
прихожей свет, отворил дверь -- она качнулась и отошла. В проеме возникла
фигура Ломова, он с достоинством старался сохранить вертикальную неподвижность
и порог не переступал.
-- Заходи. Тихо только.
Он не заходил. Наконец, преодолев
состояние загипнотизированной кобры, он отчетливо произнес:
-- Квадратный метр и офицерскую
шинелку не выделишь? -- Эти слова были хорошо известным паролем в нашем узком
кругу. Квадратный метр и шинель означали просьбу постелить на кухне спальник
или матрасик плюс старенькое пальтецо сверху. "Квадратным метром" мы
пользовались взаимно по причине личной неустроенности жизни либо по другим, не
менее веским причинам.
Изъяснялся Ломов своеобразно:
-- Я, конечно, извиняюсь за помешательство
твоей замечательной семейственности, но так уж получилось... Вот. Пусть утрата
внешней видности не помешает внутреннему понимательству. Вот. Квадратный метр и
-- я твой должник по самое гробство! Зайтить можно?
Гундосил он громко, и я молил небеса,
чтобы они удержали мою молодую жену от несправедливой расправы.
-- Где Мышка? -- осведомился Ломов,
кося глазом на вороний манер. Мышкой именовалась -- за малый рост и
непредсказуемую неуживчивость -- моя жена, которая умудрялась прогрызать в потаенности
нашего пьяного
мужского
самодовольного братства опустошительные дыры. Впрочем, жены остальных
участников братства грызли нас с не меньшим усердием и успехом. Мы понимали
свою беззащитность, и от этого трусливое отчаяние неполучающейся личной жизни
вновь и вновь толкало на жертвы или подвиги. Душа у каждого была широкая: куда
ни плюнь -- все попадешь... На языке Ломова, к примеру, выяснить глубину
взаимных противоречий с его женой, Махамолей, как мы ее звали, -- то есть
попросту поскандалить -- означало совершить "гражданский подвиг". Но
были и другие "подвиги."
Махамоля и Мышка -- персонажи особые.
Прошу учесть.
-- Ло-о-о-мик! -- в одной ночнушке
Мышка выскользнула у меня из-за спины и повисла у высокого Ломова на шее,
кокетливо задрав одну босую ножку. Ломов, задержав дыхание, чтобы уменьшить
"выхлоп", терпел показательную демонстрацию чувств, по-прежнему кося
вороньим оком на заветную кухню в конце коридора, где ему явно мерещился
"квадратный метр" и покой до утра. -- Как я по тебе соскучилась! Заходи,
я всегда тебе рада, даже если ты пьяный. Тебя это не портит. -- И она
заулыбалась, обнажая мелкие хищные зубки.
-- Я приношу свое извинятельство за
позднюю визитовку, -- начал было ночной посетитель, и хищные зубки обнажились
еще шире и приветливей.
-- Заходи! Я только сегодня о тебе
думала.
-- Ложись. Разберемся мы тут...
Договорить мне не дали.
-- А ты, скотина, молчи, пока не
получил, не к тебе пришли! Ты ведь ко мне пришел, правда? Ну скажи! Да чего ты
не дышишь-то, дыши, все равно ведь все знаю. Ло-о-о-мик!
Трезвый человек вряд ли поймет, что
оказываться меж двух огней в дружеской, но взрывоопасной компании -- это
профессиональный спорт. Ломов -- пьяный канатоходец -- осторожно начал
расцеплять Мышкины руки на своей шее.
-- Собственно, я пришел отяготить вас
своим существованием, -- сказал Ломов. -- Но если скоротать ночность до утрости
здесь нельзя, то я пойду существовать дальше.
-- Существуй здесь, -- сказала Мышка.
-- Постелю сейчас, -- сказал я.
-- Сволочь, -- сказала Мышка.
Перебрались на кухню. Мышка оделась:
обула тапочки и накинула на ночнушку платок. Из аптечки она достала пузырек со
спиртом, перелила в поллитровую молочную бутылку, добавила из крана холодной
воды, закрасила вареньем: "Будешь?" -- и поболтала фиолетовой приманкой
у Ломова перед носом. Ломов занервничал.
-- В пьянке важна коллективность.
Чего, я один, что ли, буду?
-- Зачем один? Я с удовольствием с
тобой буду, -- сказала Мышка.
-- А он? -- Кивнув на меня, Ломов
допустил психологическую ошибку.
-- А ему -- хрен.
Я в это время прислуживал: построгал
сыру, открыл банку с томатной килькой. Затравленным стеклянным глазом Ломов
пытался перехватить в движении мой взгляд. На второй глаз у Ломова
непроизвольно опустилось птичье веко. Наконец его попытка удалась, и он
разродился речью в мой
адрес.
-- Я буду гадом по отношению к хозяину
этого дома, но я буду гадом...
-- Сволочь он, а не хозяин! -- подала
реплику Мышка.
-- Гадом... -- продолжил гость. -- Но
моя болесть головы разрешает мне быть гадом. И -- уж извини -- я вынужден
послушаться своего внутреннего голоса. А голос этот мне говорит, что я
алкоголик и нет во мне ни стыда, ни совести. Разрешаю в меня плюнуть.
Наливай...
Мышка лишь пригубила самодельный
напиток. Ломов осилил стакан за два приема. Покурил, роняя пепел направо и
налево, и вскоре с удовольствием констатировал:
-- Косость увеличивается. Желаю
"кэ-вэ метр". Можно?
-- Посиди еще, -- попросила Мышка,
надеясь на приятную беседу. Увы.
-- Ни ходячести, ни стоячести, ни
сидячести. Только лежачесть
-- Тогда скажи тост.
-- Тост -- скажу. Говорячести сколько
угодно, -- и он сгреб в обе ладони посудину с остатками разведенного спирта.
Мышка запричитала:
-- Скажи мне такое... Такое! Ну,
что-нибудь такое-такое!
-- Скажу...
-- Ну!!!
-- Говорю. Нечестный ты человек, мать!
-- и Ломов залпом опрокинул бутылку "из горла". Тут лицо его
передернулось, глаза, расширившись на миг, вдруг закрылись в надежной
блаженности; еще чуток и -- фиолетовая струя накрыла остатки сыра, кильку.
Ломова вырвало не сказать чтобы обильно, но в несколько раз больше того, что он
успел
выпить и съесть.
Мышка находилась в злобном шоке;
бледная, она созерцала на светлой ночнушке новые узоры.
-- Гад, -- сказала она, и я
почувствовал, как маленький костлявый кулачок расквасил мне нижнюю губу.
Облегчив тело, Ломов с грохотом рухнул
на пол. Последние, произнесенные достаточно внятно, его слова были:
-- Квадратный метр и офицерскую...
А потом было утро. Не первое и не
последнее.
-- Вся рожа в швах, -- изучал себя в
зеркале Ломов. -- Поправиться нечем? Ну, бывайте.
-- Я не сержусь на тебя! -- тоскливо и
неискренне улыбнулась на пороге Мышка.

Не под-вер-же-но!!!
Шура был художником. Как все
художники, он носил бородку и поддерживал длину прически по максимуму. Как все
художники, он был похож на Христа, у которого сперли крест, и теперь он жил в
пустой растерянности, совершенно не представляя, как совершить подвиг
самопожертвования во имя спасения человечества. Самое обидное, что человечество
не нуждалось в таком подвиге. По крайней мере, от него, Шуры. И Шура оставался
с собой один на один. Это было невыносимо!
Он делал графические работы, пробовал
живопись, иногда показывал друзьям свои творения и с тяжелым трагическим лицом
выслушивал их неуклюжие непрофессиональные слова об искусстве. Он не любил,
когда об искусстве говорил кто-то, а не он.
Я запомнил то, что запомнилось.
Например, картину, где на белом поле стояло, накренясь в сторону, здоровенное
яйцо, из яйца выглядывал хищный человеческий глаз. Или -- целая серия картинок,
где на сцене развивалась не то сказка с вурдалаками, не то замаскированная
человеческая жизнь -- короткая и некрасивая; причем внизу, перед сценой, на
каждом листе горела независимая свеча, символ; от картинки к картинке свеча
постепенно становилась все короче, короче и на последнем листе гасла вовсе. Эта
серия произвела в нашей компании впечатление выдающегося события. Трагичные
складки возле Шуриных губ заломились еще круче вниз.
Портфель-дипломат с серией он оставил
однажды в такси, под залог. Вышел из подъезда -- нет такси... Так и кануло.

-- Старик! Духовное не подвержено
алкоголю! -- Он часто повторял эту фразу при случае и смотрел так, что я
неизбежно чувствовал всеми проспиртованными фибрами: у него -- не подвержено, у
меня -- подвержено. Поэтому хотелось верить в "Христа" и идти за ним.
Шура, как человек творческий, ценил
концепцию самоуничтожения и понимал птицу Феникс, возрождающуюся из пепла:
бывало, сам "горел" по пьянке, а уж как возрождался -- словами не
описать, пережить надо.
Шура говорил:
-- Если жизнь вокруг слишком хороша --
это плохо. Это смерть для художника. Надо искать выход! -- И мы искали выход и
находили его. Когда за десятку, когда и за две сотни. От "раскрутки"
зависело. После первого "оборота" внешние обстоятельства уже, как
правило, в расчет не брались -- начиналась произвольная программа.
Вот в результате одной такой
"программы" мы проснулись однажды утром с Шурой на пару в чужой
квартире. Здесь жил наш знакомый парень, турист и балагур, заводчанин, купивший
свою жилищную свободу ценой алиментов. Но мы не сразу опознали знакомое место и
даже не сразу определили, что нас в квартире двое; заводчанин, видимо, ускакал
поутрянке в проходную.
-- Кто тут? -- услышал я скрипучий
голос, идущий откуда-то с пола, от батареи водяного отопления.
-- Я. Это ты, что ли, Шура?
-- Я.
С полчаса пролежали молча, каждый
прислушиваясь к звукам на лестничной площадке и еще более внимательно -- к
отдельным оживающим жизням в организме: желудку, горлу, голове.
-- Жаба горит, -- проскрипело из-под
батареи. -- Мы где
встретились-то
вчера?
-- Не знаю. Я у Птисы был... -- Птисой
мы звали еще одного нашего товарища, потому что у него была птичья фамилия.
-- Я у Птисы не был. С бабой со своей
поругался. Домой, стерва, не пустила. Странно... Вроде бы я на мансарды
пошел... -- Шура заворочался, застонал. Спали мы, разумеется, в одежде. Я в
кресле, в сидячем положении, он -- на полу. Все-таки очень хотелось выяснить:
где мы пересеклись? Нет, не выяснялось.
-- На работу пойдем? -- спросил я не
для того, чтобы получить утвердительный ответ, а для того, чтобы
удостовериться, что сознание наше уже достаточно проснулось и обрело некую
обязательную и необходимую коллективность.
-- Пегестаньте сказать! -- произнес
Шура коронные слова своего тестя, имеющего национальность из анекдотов. --
Сволочь я! Господи, какая же я сволочь! -- неожиданно Шура перешел на
самобичевание. -- Сволочь! За тебя не говорю, а я -- грязь, подонок. Господи!
-- Ты с деньгами? -- спросил я его
безразличней некуда.
Он сразу сконцентрировался, замолк,
долго ощупывал одежду, сел, привалившись спиной к батарее, вымолвил сокрушающе:
-- Нету.
-- У меня -- на донышке.
-- А!.. Ну почему мы так живем,
почему?! Старик! Ведь мы же хорошие ребята, талантливые... У каждого человека
на земле есть своя судьба; она его гнет, ломает, а он упрямится, не хочет
ломаться, сволочь...
`Часовая стрелка подползла к
одиннадцати. "Скоро начнут давать," -- подумал я. Собственно, все это
время я только об этом и думал.
-- Репу ломит, -- пожаловался Шура на
головную боль.
-- А у меня животные колики -- живот
колет.
Доползли до кухни. Тоска вавилонская!
На столе бодрая записочка: "Уважаемые сэры! Рад приветствовать вас у нас.
Ну и хороши вы были, субчики! До вечера не исчезайте: принесу". Это
сообщение окрылило, но лишь на мгновение, до вечера еще -- о-го-го.
"Вымрем, как пить дать, вымрем", -- в панике подумал я.
Шура трясущимися руками заварил чай.
-- Пей. Что ж он, даже ключа не
оставил! -- ругнул Шура хозяина квартиры.
Влили в себя чай, уставились друг на
друга отупело.
-- Давай выложим все из карманов, --
предложил Шура. -- Может, придумаем чего. Должны придумать! Обязаны!
Он достал ключи, носовой платок, пучок
кисточек, абонементные талоны на трамвай и в заключение -- пробку от бутылки. Я
отдельно выложил рубель четырнадцать, отдельно остальное карманное барахло,
пересыпанное табачными крошками.
-- Все?
-- Все. Паспорт остался.
-- Давай. Пусть лежит. До кучи.
Я выложил.
Как два идиота, мы пялились на весь
этот набор, мучительно пытаясь выудить из глубин ума спасительное решение.
-- Есть "двушки", можно
позвонить...
-- На фиг. Страшно. Я не пойду.
-- Я тоже.
-- Есть! -- сказал Шура. Он
преобразился. Замурлыкал мотивчик, ушел обратно в комнату.
-- Чего "есть"? -- я не
понимал.
Шура рассматривал книги.
-- Точно! С паспортом мы сдадим
книжата! -- я развеселился. -- Нас, подлецов, близко к приличному дому пускать
нельзя! Ну-ка, ну-ка...
-- Может, не надо? Перетерпим
как-нибудь. Стыдно... На хорошие книги руку поднимаем. А! Ладно. Я ему потом
Бабеля принесу.
-- А я протопопа Аввакума.
Книг набрали на два червонца,
поставили открытый дверной замок на предохранитель, притворили дверь, для
"косметики" в щель даже бумажку сунули, мол, записка. Дворами,
дворами -- помчались.
Приемщица в книжном смотрела на нас
уничтожающе. Шура рассматривал прилавок с открытками. Я сдавал. Пот катил с
меня не хуже, чем в сауне.
Позорная процедура наконец
закончилась. В "Штучном" позорился уже не я. Взяли
"краснухи". Полный портфель. Портфель, кстати, мы тоже
позаимствовали.
-- Нет, подумать нельзя, какие
мерзавцы!
-- Гады!

Так мы бежали и радовались, что нас
никто не застукал, что так все удачно и изобретательно получилось. Теперь
можно, не дергаясь, лечь на дно. До вечера продержимся со свистом!
-- Гады!
-- Мерзопакость!
Добежали. Шлеп! -- Захлопнули дверь.
На кухню: топ-топ-топ. На кухне: буль-буль-буль.
Хорошо!... Отпустило постепенно.
Сидим, сияем. Спешки как не бывало.
-- Я все-таки, старик, настаиваю:
духовное не подвержено алкоголю! Тело -- это наша расплата за жизнь, потому что
жизнь в теле сама по себе грешна. Грешна принципиально! Ты понимаешь? Мы
вынуждены сопротивляться, кого-то побеждать, обманывать... Нет, ты скажи, кому
нужен невыносимо честный человек? Абсолютно честный? -- Ни-ко-му!
Вино только тело
делает животным, а душа -- поет... Трезвый ты ходил прямо, а выпил -- ноги
кренделями. С душой не так: от выпивки она еще прямее делается. Все наоборот, вот
ведь какая незадача. Духовное -- не подвержено. Не под-вер-же-но! В этом наше с
тобой спасение, в этом -- погибель.
-- Почему погибель? -- заинтересовался
я.
-- Очень просто, -- он объяснял
терпеливо, с удовольствием, как ребенку. -- Тело мешает душе освободиться.
Поэтому она его мытарит -- она ненавидит его!
-- Возможно, конечно, --
глубокомысленно изрек я, морща лоб.
-- Сам посуди! "Утро туманное,
утро седое..." Что ты чувствуешь? Чувствуешь, как высоко звучит! А ведь и
на трезвое ухо и на пьяное -- звучит одинаково. То-то! -- и он погрозил мне
пальцем.
Налили. Выпили. Заголосили:
-- Утро-о-о... туман-н-ное-е-е,
утро... седое-е-е...
Допели до конца, помолчали возвышенно,
довольные тем, что вспомнили все строчки.
-- Спасибо Тургеневу, сильно, гад,
делал.
-- Здорово. Давай за него...
Громко бленькнул звонок. Я чуть не
умер от разрыва сердца. Замерли в испуге оба. Звонок вякнул, раскалывая
тягостную тишину, еще раз, еще. Загремел лифт, все успокоилось.
-- Пьянство -- это наше испытание, --
сказал Шура, -- мы должны его преодолеть достойно. -- В его словах отчетливо
слышалась настоящая торжественность. -- Если погибнет тело -- не беда,
останется что-то вечное, а если погибнет душа... -- Тут он, мне показалось,
сглотнул слезу, но выровнялся, продолжил: -- Ты не слушай меня, несчастного
дурака, я опасные слова говорю.
А я и не слушал, меня уже клонило.
-- А-а-а!!! -- Шура сдавленно крикнул.
Я поднял голову и с веселым удивлением увидел, что он воткнул себе в палец
вилку. Бойко закапала кровь. Он швырнул мне свой носовой платок, все еще
лежащий на столе.
-- Пиши!
-- Чего писать?
-- Пиши, пожалуйста. Очень тебя прошу!
-- Шура морщился. Но не от боли в пальце, а от чего-то куда более сильного. --
Пиши!
Я взял авторучку, приготовился.
-- Пиши. Диктую. Клятва... Написал?
Обязательно напиши: "Клятва". Так. Пиши дальше: пусть отвернуться от
меня все люди, если вино победит меня. -- Потом он отобрал у меня платок и
измазал его весь кровью, ставя пальцем своеобразные печати. Магические, надо
полагать. Снова вернул платок, посмотрел так, что мурашки по коже побежали. --
Храни!
Я разлил по стаканам.
-- Будь!
-- Будь!
-- Не подвержено! -- Шура был
великолепен. Это последнее, что я запомнил в тот день.

Карасим
В Конторе, где почти все мы тогда трудились,
на третьем этаже имелась комнатка. Маленькая такая, почти ничейная. В углу был
шкаф, ровесник века, стояла сваренная из водопроводных труб и арматуры
вешалка-рогулька; у окна тесно уперлись лоб в лоб два стола, на которых чаще
сидели, чем работали за ними: стул на все хозяйство имелся только один.
Размещались при случае стихийного сборища тоже стихийно -- и на подоконнике, и
на полу. Все очень демократично. Пепел от сигарет крошили, разумеется, тоже на
пол. Должно быть, этот
знак внешней
раскованности соответствовал раскованности внутренней. Чего уж.
Да! Еще был телефон, шнур которого
постоянно обрывали, запинаясь по забывчивости или по нетрезвости. Приходилось
прикручивать хилые проводки обратно, вечно опасаясь, что долбанет током...
Коллектив наш был дружный: спаянный и
споенный, как говорили тогда. Ближе к концу рабочего дня маленькая комнатка на
третьем этаже запиралась на ключ изнутри и там тихо-тихо вершилось мужское
таинство аккуратного -- на всех поровну -- розлива. Не каждый день, конечно. Не
каждый... Я хорошо помню: не каждый! А ближе к шести вечера участники собрания
становились смелее, что заметно выражалось в
увеличении
громкости перекрестных доказательств. А если засиживались до ночи, то стоял
такой ор, что старики вахтеры с первого этажа гарантированно ковыляли к нам со
своим стаканом. Знали: с посудой тоже не ахти.
Все было отработано и отлажено как на
военном производстве. Ничто, казалось, не могло омрачить нашего
богатырствующего состояния. Богатырствовали без дураков. Тот же Птиса: после
первой бутылки водки он трактовал политику, после второй -- литературу. При
продолжении мог заявить, что его самого трактуют неверно. Огромного ума
человек! -- думали мы.
Так бы и продолжалось. Но всему есть
свои испытания. Пришел час испытания и нашему братству. Примерно с полгода
назад в наш коллектив влился новый член. Не простой член. Член КПСС. Карасим.
Вообще-то его звали иначе, но мы случайно узнали, что во время выдачи
партийного билета в священную бумагу вписали на татарский манер: "Карасим".
Так и получилось что-то среднее между "карасем" и
"керосином".
Карасим был застенчив, мог часто
извиняться при разговоре, мог вообще начать разговор с предварительного
извинения -- очень уж не любил отягощать фактом своего явления кого-либо.
Вежливый был, как японец. Вежливый и упрямый, если дело касалось убеждений. Как
ему удавалось
сочетать свою
застенчивость с непробиваемым упрямством -- один бог знает. Но в бога Карасим
не верил. Он верил в то, что рай на земле должна построить партия; есть строительный
материал, есть строители, но что-то подзадерживаются проектировщики с
идеологическими чертежами... Мы считали его инфантильным, застопорившимся в
своем прозрении где-то в детско-пионерско-розовом периоде, не сердились --
просвещали и приобщали к действительности. Это было не очень накладно: Карасим
косел с двух рюмок, как Птиса с двух бутылок. Косел и обязательно повторял
упрямо:
-- Вы ни хрена не понимаете задачи
партии!
А мы и не спорили. У нас были свои
задачи: где "взять", где "хлопнуть", где
"заземлиться", кто пойдет к чужой жене "громоотводом". И
т.д. Обо всем остальном мы спорили и разглагольствовали попутно.
Зато Шура всегда подчеркивал упрямство
Карасима со своей колокольни:
-- Ну что, убедились? Духовное не
подвержено алкоголю!
-- Не подвержено! -- всегда соглашался
Карасим.
Через полгода Карасима выбрали
секретарем партийной организации, что немедленно ознаменовалось чрезвычайным
заявлением "двойного члена" -- члена нашей компашки и члена КПСС.
-- Все! Хватит! Я не позволю пьянствовать
на работе! Безобразие! Извините, конечно, если кого обидел. Имена пока называть
не буду, но вы же алкоголики. Ал-ко-го-ли-ки! Я буду бороться.
Мы сразу поняли, что "задачи
партии" могут задавить нашу свободу очень просто: возьмут и рассекретят
чего не надо. Женщины на собрании даже зааплодировали. А Карасим от избытка
праведности и нервов густо вспотел, щеки покрылись фиолетовыми пятнами, руки
дрожали.
-- Имейте в виду: я все занес в
протокол!
Вот это и было испытанием нашего
братства. Комната на третьем этаже как-то засиротилась. Давно уже никто не
обрывал заплетающейся ногой телефонный шнур, не расплывались в понимающей
улыбке-готовности старики вахтеры.
Недели через две правдоборец сам
почувствовал неестественность атмосферы. Смущаясь, подошел однажды к нам, то
есть ко мне и Ломову, почуял, что именно ему мы тут перемываем кости.
-- Ребята, как-то мы не так живем...
-- Ясное дело, -- уставился на него
немигающий Ломов, чем окончательно смутил и привел в замешательство слугу
партии и девственника совести.
-- Надо бы собраться, поговорить...
-- Где? -- Ломов смотрел в упор, как
фашистский прожектор.
-- У меня нельзя. У меня -- не
получится...
-- А у кого получится?
-- Не знаю. Может, у тебя, Левонтий?
-- Кранты. -- Что я еще мог сказать?!
-- Не фиг было распространять
внутреннюю хреновость на окружающих! -- Ломов был само назидание. -- Никому еще
расхлебывательство не приносило удовольствия. Не прав, скажи?
-- Так оно... -- совсем потупился
Карасим. Его, видимо, страх как угнетало, что ребята стали подчеркнуто вежливы
и пьяными он больше практически никого не видел. Не видел и все тут! А это не
вписывалось в концепцию поголовного алкоголизма, от которого надо спасать.
Спасать стало некого, и спасатель -- занервничал.
-- Вы меня извините, если я
погорячился, я тут человек в общем-то новый... Но ведь должны же быть принципы,
которые уважаются всеми! -- в его голосе опять зазвучал металлический тембр.
-- Должны. Как не должны! -- Ломов
издевался, намекая на разницу принципов. -- Чего ты мне свою лапшу мылишь? У
меня своя лапша. Я твою лапшу не усвояю. Неусвоятельство получилось!
-- Так оно...
Собрались мы, разумеется, на третьем
этаже. Компания для начала была узкая, избранная: Ломов, Карасим и я. Порок
торжествовал, партия поднимала белый флаг.
-- Ты ведь своей партийной книжицей
понимательства не заменишь. А зачем тебе книжица без понимательства?
-- Так оно...
Это была полная победа
"понимательства". Испытание завершилось. И мы стали говорить о том,
кто такой -- раб собственной исполнительности.
-- Это -- я! -- сокрушался Карасим.
Курил много, жадно, как перед боем.
Я запнулся за телефонный провод.
Оборвал.
-- К лучшести, может, -- констатировал
Ломов. Мир, казалось, не мог уже вторгнуться в комнатку ни с какой стороны:
дверь на замке, телефон -- тю-тю.
-- Говоришь, живешник -- НЕ ТАК? --
Спросил опять Ломов.
-- Не так... Ведь мечтали, за
Корчагина волновались, читали, слушали -- будто сами все жили! А потом глаза
раскрылись -- не так!
-- А хочешь посмотреть на ТАК?
-- Зачем? То есть да. А на что?
Извини, запутался, старый дурак. -- Карасим, действительно, был старше нас кого
на год, кого на три.
-- Это порнография. -- Ломов четко
выговорил каждый слог, поглядывая при этом испытующе и свысока.
-- Что я, ребенок, что ли? -- обиделся
Карасим на недоверие, стараясь всем своим видом показать, что он вообще ас по
порнографии. Реакция Ломова удовлетворила. Про меня они забыли. Я был в
знакомой роли -- как бы обслуживающим официантом при двух беседующих
джентльменах.
Из портфеля Ломов достал диапроектор,
две коробки со слайдами. Настроился. На белой меловой стене появилось
изображение: две симпатичных девушки в длинных закрытых платьях играли на
рояле, а рядом в белом смокинге стоял очаровательный молодой человек. Потом --
на следующем кадре -- они чинно менялись местами. На рояле играл мужчина. Потом
он перешел на виолончель. На каждом кадре люди улыбались светом утонченной
духовности, глаза каждого излучали любовь и ум.
-- Нравится? -- спросил Ломов.
-- Чересчур уж романтично, -- признался
Карасим.
Ломов щелкнул рамкой проектора, вгоняя
под луч лампы очередной кадр слайд-фильма, переснятого как я знал, из журнала.
Ихнего журнала. Не нашего. Щелк!
-- Что это? -- спросил Карасим.
-- Это чувак спустил штаны, а чувихи
пиляют ему смычком по хрену, -- бесстрастным голосом сообщил Ломов, в точности
описывая картину на стене.
Щелк!
Щелк! Щелк!
-- Не может быть! Неужели это живые
люди?! -- Карасим не на шутку разволновался, воочию убедившись в
изобретательности группового секса. -- Не может быть! Это, наверное, куклы!
Манекены! Не может быть, чтоб живые люди! Погоди... Выключи пока. Не могу
больше!.. Налей.
Я обслужил.
-- Это же разврат!!!
-- Да. Это разврат, -- отчеканил Ломов
гордо и с расстановкой.
-- Не верю! Не могу поверить, что они
-- живые! -- верещал Карасим. -- Они же все голые и даже свет не выключили. Это
неестественно!
-- Голость еще никогда не
противоречила естественности, -- сказал Ломов. -- Хотя лично я предпочитаю
традиционные методы. Как отцы наши, как деды. Привыклость не любит
разнообразности.
Опять включили аппарат.
-- Убери! Убери сейчас же эту гадость!
-- Ну почему же гадость? Очень даже не
гадость! По крайней мере, это лучше, чем всякое начальничье сношательство меня
в голову. При социализме голова -- это половой органон. А зачем мне это надо?
Неожиданный поворот темы ввел Карасима
в ступорную задумчивость. Глаза его перестали реагировать на внешние
раздражители и затуманились.
-- А моей первой женщиной была жена...
Уж простите, что сказал... Я позвоню ей, девятый час уже, надо сказать, что
задерживаюсь -- дежурство...
В армии Карасим был связистом, поэтому
он уверенно полез под стол соединять телефонные проводки. Соединил. Повертел
диск номеронабирателя, заныл в трубку:
-- ...Так получилось...дежурство
неожиданно...
А из трубки громко:
-- Не ври! Пахнет от тебя!
-- Чисто символически...
-- Не жалко! Никого тебе не жалко!
Только пальцем помани...
Закончив переговоры, Карасим совсем
помрачнел.
-- Пора. Гудбайте. Скажи, Ломов,
чего-нибудь на прощанье.
-- Не посрами хрена богатырского! --
сказал Ломов. А когда наш третий ушел, добавил: -- Сокрушительство иллюзий
всегда вызывает желание попительства вина.
И мы позвонили Птисе.

Махамоля
Проснулся я в ломовской коммуналке;
это определилось сразу, потому что открывшиеся глаза сообщили извилинам: вот
коричневая ножка письменного стола, вот картонный ящик с книгами, вот напольные
весы, вот бутылка "Агдама"... пустая... вот "ломовский
шакал", именуемый в просторечье тараканом, ползет по бутылке. Слава богу:
я -- у Ломова!
В вытрезвителе было
бы хуже. Хотя сравнивать приходилось
относительно: пока
что никто из наших в "трезвак" не залетал, знали о его прелестях от
старших товарищей нашей Конторы. Эти сорокалетние тихушники тоже, кстати, умели
шутить с жизнью не хуже молодых. Один такой на днях запустил в милицейское окно
на первом этаже стоптанным ботинком, потом снял второй и запустил туда же, ну
и, наконец, пнув
дверь, предстал
перед ошеломленным летехой -- бос и кос: "Именем революции! Сдаюсь,
гады!" -- так он ознаменовал пятнадцатисуточным заключением развод со
второй женой.
...Ломовский шакал винтом походил по
бутылке, свалился и -- прямиком засеменил ко мне. Я лежал на знакомом матрасике
на полу, в одежде. Таракан приближался. На секунду скрылся было за краем
матраса, но выскочил наверх, как на бруствер, и уж совсем быстро побежал прямо
к лицу. Я набрал в легкие воздух и дунул: "Кыш, сучара". Насекомое
поняло, побежало обратно.
Вчера справляли день рождения одного
друга. Сидели чинно, анекдоты политические рассказывали. Баб не было. Да! И
Ломова не было! Ломов -- в командировке. Это-то я знал точно. Точнее не бывает:
на месяц уехал повышать квалификацию. Вернется не скоро, весь в долгах, больной,
трясущийся. Длительная командировка -- это как спецзадание:
себя не жалеешь!
То, что я лежал на полу у Ломова в
отсутствие Ломова, мне не нравилось, это открытие окончательно отпугнуло и без
того хрупкий похмельный сон. Надо было выяснить обстановку.
Я, кряхтя, перевернулся на спину,
поскреб ногами, поднимаясь повыше на валик какого-то тряпья под головой. Теперь
был виден весь коммунальный пенал. На диване среди скомканных простыней и
просто мусора восседала, как Будда, безмолвная Махамоля -- громкоголосая и
скорая на любую расправу жена Ломова. Впрочем, такая же скорая и громкоголосая
на любую бескорыстную помощь. Это уж как понравишься. От тебя зависит. Махамоля
знала, что у нее психопатия и вторая стадия алкоголизма. Это знание возвышало
ее перед окружающими в собственных глазах, поэтому трезвая она разговаривала с
людьми со скорбной снисходительностью обреченного. Похмельная Махамоля была
непредсказуема просто как женщина. Сейчас ее состояние было именно таким. Она
чуть раскачивалась, и под серым балахоном, заменявшим ей ночную рубаху,
раскачивались в такт телеса. К Махамоле мы относились как к равному
собутыльнику, поэтому вопросы пола отсекались в зародыше. Махамоля никак не
могла сообразить, что за бабу ее не держат. Думала, соображала что-то, чуяла,
тревожилась, в морду могла заехать, а вот конкретно признаться, что это так --
не могла. Понятно, конечно: кому охота себя заживо хоронить?! Пусть даже
мысленно...
-- Иди, посикай, -- приказала
Махамоля, не переставая раскачиваться.
На широком лице ее заметно выделялись
отвисшие синие мешки под глазами.
-- Я не хочу.
-- Иди. Легче будет, -- продолжала она
настаивать.
Я покорился. Преодолевая ломоту в
суставах, плавно занял вертикальное положение, молча заковылял куда сказали.
Легче не стало. Хуже только стало. Последние силы, которые экономно
расходовались на жизнь лежа, израсходовались теперь за один небольшой поход.
Как же я сюда все-таки попал,
интересно?
-- Жрать хочешь? -- спросила Будда.
-- Не знаю. Надо бы. -- И я с ужасом
представил процесс еды. Но этот опыт повторялся не первый раз, и было ясно:
придется поесть силом, чтобы потом стало полегче. Чего нибудь легонького
поклевать, жиденького, легкоусвояемого.
-- Глазунью зажарь, -- сказала Будда.
Я поплелся на кухню, оставив
раскачивающееся тело в сером балахоне. Дверь пенала оставалась открытой, звуки
кухни проникали туда беспрепятственно.
-- Много не бери! Мне еще на тесто
надо, -- крикнула Махамоля вдогонку. -- Наши -- на подоконнике.
Холодильника у Ломовых не было
никогда, поэтому скоропортящиеся продукты в большом количестве не водились,
как, впрочем, и долгосохраняющиеся. Даже пустые бутылки в большом количестве не
скапливались -- редко когда до сотни-полуторы... Успевали сдавать. Все в этом
доме текло и изменялось, как сказал бы философ. В кассете на подоконнике я
обнаружил всего шесть яиц. Мало. Я настроился было проглотить штуки четыре.
Хватит или не хватит ей пару на тесто? Хватит, наверное. Конечно хватит! Да и
одного чуть-чего достаточно будет. На хрена ей вообще тесто? Еле сидит,
кикимора! Когда еще оклемается! Да... дошла Махамоля. Жалко Ломова...
Так я думал, тем временем выставляя на
огонь сковородку. Бросил на нее из масленки соседей по коммуналке кусочек масла
и взял в руки нож, чтобы расколоть коки...
И тут я должен поделиться личным
секретом из серии "маленькие хитрости". Махамоля слышала только два
колющих удара ножом, а на сковородке у меня преспокойненько жарились четыре
желтых глаза. Угадываете, в чем дело? Правильно! Когда хозяйские зенки залиты и
невнимательны, хозяйские уши бессознательно продолжают учет частной
собственности, точнее, ее расход по непредвиденным обстоятельствам, именуемым в
широких массах населения организацией закуски. Бдительность хозяйских ушей
можно обмануть так: берете в левую руку сразу два яйца и разбиваете их одним
ударом. Хозяин думает, что вы разбили только одно. И не теряет спокойствия от
просыпающейся жадности. А вы в это время повторяете операцию. Хозяин отмечает
про себя: "Хватит. Достаточно". А вы и не спорите. Всем хорошо.
Хозяин чувствует себя благодетелем, а вы чувствуете себя победителем. Вас обоих
посещает чувство собственного достоинства, и вы продолжаете любить друг друга и
нуждаетесь в общении. А ведь не будь эта маленькая хитрость маленькой
хитростью, могла бы возникнуть в отношениях неприятная трещина.

Поймите правильно: делюсь самым
сокровенным! Вы замечали, что при нарезании булки кусочки имеют явно выраженную
форму усеченного конуса? Так вот. В гостях масло следует намазывать на широкую
сторону, а принимая гостей у себя -- наоборот. Особый характер имеет техника
накладывания сахарного песка в чашку. С этим не торопитесь. Обязательно
дождитесь, когда в чашке появится жидкость. Суть секрета вот в чем: что прежде
чем накладывать песок, окуните ложечку в
воду. Тогда снизу
на мокрую поверхность пристанут дополнительные кристаллики. При каждом новом
цикле накладывания операцию окунания следует повторять. Хозяин не заметит, что
за три, скажем, захода вы положили как за четыре... Эх! Все эти хитрости
родились из плебейского похмельного страха, когда всего и всех боишься, всех
подозреваешь, когда даже крохоборское самоуничижение помогает выздоравливать. А
ведь выздороветь хочется. Ведь хочется же!
Есть еще подвижка колбасы зубами по
бутерброду. Вдоль. То есть хлеб кусаешь полноценно, а колбасу верхними зубами
все время подвигаешь вперед, захватывая лишь очень небольшую часть. Когда
съедается весь хлебный кусок, можно взять следующий, а оставшийся колбасный
сегмент просто переложить. В этой операции, несомненно, есть элемент искусства,
глубоко сосредоточенного творчества. Когда еды мало, хлеба много и -- очень
кушать хочется.
Ну, на сей-то раз мой случай был
другим. Я питался насильно. То есть в чисто оздоровительных целях. А
"маленькие хитрости" применял автоматически. Так профессионал-охотник
идет, наверное, крадучись там, где надо маршировать... Привычка!
-- Пожрал? -- Махамоля перестала
раскачиваться.
-- Ага. Спасибочки! -- я смотрел на
нее по-собачьи: преданно и с благодарностью. Захотелось и для нее сделать
что-нибудь лично полезное. -- Может, тебе тоже пожарить? -- Она отрицательно
помотала головой, показывая, как ей тошно. -- Или -- чай?
-- В манду твой чай! Вино пить будем!
-- неожиданно уверенным громким басом гаркнула вдруг Махамоля. Довольно резво полусползла-полустекла
с дивана и почти полностью погрузилась в недра раскрытого стенного шкафа. --
На! Держи! На праздник брала. -- На белый свет явились два полнехоньких
"Агдама" по ноль семь. Причем я засек в стенном хранилище следующий,
очень обнадеживающий звяк. -- Хватит пока, --
рассудительно
сказала Махамоля. -- Купорь!
Я разлил по фарфоровым стаканчикам, не
слишком большим, на мой максималистский взгляд. Махамоля любила культуру и
степенность. Не всегда любила. Моментами.
-- Не рыгнуть бы, -- укрепила она себя
словами и махнула в один глоток. Я махнул так же. Поглядели друг на друга.
Помолчали.
-- Сейчас чудо сделается. Сейчас
отпустит, -- утешил я ее.
Махамоля закурила, обвела презирающим
взглядом комнату, передернулась лицом:
-- Бардак! Как свиньи... На хер такая
жись! -- налила себе сама, замахнула так же резко, грохнула стаканчиком по
табуретке. Пили -- с табуретки, придвинув к дивану вместо стола.
Неожиданно настрой Махамоли сменился
на сто восемьдесят:
-- Гулять будем! Мандеть будем! Бля --
не я!
За окном была суббота. Сквозь дырявую
занавеску мне было видно, как добропорядочные отцы семейств тащили на
выхлапывание ковры и половички, как выползали наружу самовлюбленные мамаши с
колясками, начинали бессмысленную возню и вопли дети. От этой наружной возни
становилось противно, просыпалось неприятное чувство самоизгойности. Хотелось
повеситься или чего там еще бывает?
Махамоля носилась по коммунальному
пеналу, как дикая лошадь в горящей конюшне. Так, кажется, говорят. Наконец,
взгляд ее упал на допотопный чемодан с мотором -- проигрыватель
"Юность". Чемодан раскрылся, на диск проигрывателя шлепнулась
какая-то пластинка, и сквозь шипение заезженной донельзя аппаратуры прорвалась,
с позволенья сказать, музыка. Громкость была приличная. По максимуму.
-- Гулять будем! Сношаться будем!
Размножаться будем! -- заорала Махамоля, пытаясь повиснуть у меня на шее. Я был
настороже, помятуя о непредсказуемости Махамоли. Изловчился и ушел в сторону.
Она осатанела.
-- Брезгуешь? Думаешь, я нечистая?
Думаешь, если пью, так -- продажная? Это вы все кобели! Суки чертовы! Да если
хочешь знать, я вообще никому, кроме Ломова... Тут и сравнивать нечего...
Проигрыватель орал что было мочи. Что
было мочи орала Махамоля -- раз так в несколько громче проигрывателя. Давила
децибеллами! Я испугался, но не очень. На дворе уже стоял день, и можно было,
собственно, топать восвояси. Черт с ним, с "Агдамом"!
-- Пойду я... -- попытка была слишком
робкой. Махамоля сунула мне кукиш под нос и снова приказала:
-- Лей, сучара!
Я налил. Через минуту у нее вновь
зашла мозга за мозгу:
-- Сношаться будем! Размножаться
будем!
-- Я пошел...
-- Ладно. Не буду больше. Проверка.
Проигрыватель заткнулся. Стало опять
тихо и душевно.
-- Я откуда взялся? -- спросил я
Махамолю осторожно. Она ничего, ответила буднично, прихлопывая ладошкой зевоту:
-- Тебя Шура принес. Я положила. Ты
тихо лежал.
Тут она снова занервничала, вспомнив
Шуру:
-- А этот кобель лапаться сразу: я,
мол, сейчас массаж сделаю -- китайский! -- тебе, мол, хорошо будет как никогда
не было... Я этому китайцу чуть не пинула куда надо. А что? Имею право! Имею
или не имею? Ну? Имею или не имею?! Скажи?
-- Имеешь, -- сказал я, разливая уже
без команды.
Слышно было, как соседка по коммуналке
открыла входную дверь, и до нас доносилось какое-то не то препирательство, не
то бормотание. Но было уже нестрашно, потому что мы успели выйти на тот
замечательный горизонт восприятия внешнего мира, когда все люди кажутся
братьями. Или врагами. Это уж опять: как подставишься.
В дверях, как привидение, возник в
шляпе, с сурово сдвинутой переносицей, сверкающими колючими глазками и
здоровенным портфелищем в руках низкорослый Карасим. Это было полной
неожиданностью, потому что дома у Ломовых Карасиму бывать еще не приходилось.
Ломов это подчеркивал, и я запомнил. Естественно было задать несколько вопросов
посетителю, но он опередил. Гневная тирада была обращена исключительно к моей
персоне:
-- Мерзавец! Ты разрушаешь не только
свою семью, но хочешь разрушить и чужую! Твоя жена просила меня лично
разобраться с тобой. Пойми! Ты сам погибнешь и ее погубишь. Ты разрушаешь семью
Ломова...
Карасим перевел дыхание, чтобы
продолжить тираду. Но не тут-то было. Махамоля недобро прищурилась, почесывая
под балахоном колышащуюся грудь.
-- Это что за жопа? -- спросила
Махамоля, обращаясь не ко мне, а непосредственно к пришельцу, которого она
впервые видела на суверенной территории собственного жилья.
-- Я -- секретарь партийной
организации! -- взвизгнул Карасим.
-- Иди сюда, секретарь-пердетарь, --
приказала Махамоля.
До вечера время скоротали вместе.
Сначала -- в спорах. Потом -- в согласии. Карасиму тоже предлагали
"гулять" и "сношаться", но он, в отличие от недотепы-меня,
нашел прям-таки гениально простой выход. Он сказал: "Потом", -- и
Махамоля успокоилась и больше не "проверяла". Вечером Карасим повел
меня сдаваться на милость Мышки. Для трезвости вида мы зажарили оставшиеся два
яйца и съели их. Я с самым серьезным видом учил секретаря партийной организации
искусству хитрой колки двух яиц одним ударом. Карасим был в восхищении.
Махамоля спала провальным бесчувственным сном и храпела.
-- Погибнет баба, -- сказал Карасим.
-- Погибнет, -- горько подтвердил я.
И мы, обнявшись, пошли навстречу
неведомой судьбе. В портфеле у Карасима каталась бутылка "Агдама",
позаимствованная из тайных запасов Махамоли. На всякий случай.


Смертельный номер
В нашу компанию затесался
студент-медик. Мишаня. В этом ласковом произношении его имени таилось всеобщее
доброжелательное отношение к светловолосому рубахе-парню, всегда восторженному,
всегда сводящему наши кажущиеся психо-бытовые сложности к простейшим
медицинским примитивам. Реакция такая-то. Синдром такой-то.
-- Ве-ли-ко-леп-но! -- приговаривал
он. -- Великолепно! Вы, голубчики, вот где все у меня! -- показывал он учебник
по психиатрии. -- Тут про каждого есть. Один к одному! Причем все без
исключения самоубийцы и маньяки. Алкогольно-депрессивный синдром! -- Это ж
понимать надо! -- таращил Мишаня круглые свои, немного навыкате глаза. Чужие страдания
приводили его, похоже, в состояние профессиональной эйфории.
Среди застолья Мишаня неожиданно мог
взять за руку рядом сидящую даму, например, мгновенно сосредоточиться в
прощупывании пульса, потом сказать:
-- Все нормально. Пульс мерцающий, зрачки
расширены. Конец близок, не волнуйтесь.
Те, кто был уже знаком с манерой
Мишани, отмахивались, а новые люди ловились на эту удочку и задавали вопросы.
Мишаня мог попросить тогда показать в дополнение язык. Долго изучал его,
сокрушенно констатировал:
-- У вас врожденный сифилис,
осложненный хронической беременностью...
Мишаня снабжал нас ворованным
анальгином и иногда -- спиртом.
Появился он вовремя...
Сцена перед его появлением произошла
следующая.
После того как мы с Мышкой наорали
друг на друга и я раз пятьдесят с чувством назвал ее дурой и негодяем в юбке,
Мышка опустила мне на голову стальной противень. Голова загудела. В противне
получилась аккуратная лунка по форме моего черепа. Я больше не хотел жить. Я
устал. Не было ни денег, ни выпивки, чтобы снять стресс. Господи! Мысленно
произносились замечательные обличительные монологи в адрес всего проклятого
женского рода. Я вышел на балкон и сел на перила, красиво так, рискованно,
раскурил, затянулся. Вечерело. За дома падало низкое солнце. Все было противно
до последнего предела. Я как раз смотрел на угасающий диск светила, когда сзади
неожиданно налетела Мышка и с криком "Это тебе за дуру!" пихнула меня
кулачонками. Держаться руками было не за что, и я инстинктивно успел зацепиться
носками ног за металлические переборки балконного ограждения. Немыслимо
изогнувшись и превозмогая пронзительную боль, я перехитрил бездну высоты
четвертого этажа и вскарабкался обратно. Мышка не мешала, только наблюдала.
Видимо, неудавшееся покушение все же удовлетворило ее оскорбленную гордость.
Она резко потеряла ко мне интерес и взялась за штопку носков. Моих носков.
Я почувствовал покой, просветление и
желание сказать доброе слово всякой твари.
-- Прощай, -- сказал я Мышке,
заглядывая ей в глазки, которые так и несли выражение сожаления об украденной
молодости.
-- Пошел вон, -- сказала она буднично.
-- Опять вешаться будешь? Хоть бы раз толком повесился! Сволочь. -- Она
продолжала штопать носок.
Тут же просветление сменилось затмением!
В гудящей голове крутились недавно читанные строчки из книжки Моэма, что если
молодого человека не ждет впереди ничего, кроме горечи и разочарования, то он,
Моэм, может только приветствовать поступок разочаровавшегося: брошен, мол,
вызов сильнейшему из инстинктов -- инстинкту жизни! Речь, конечно, шла о
самоубийстве. Вообще, в тяжкие минуты такие мысли были самыми сладкими.
Буду вешаться -- решил я.
Я осмотрел для начала ванную комнату,
но проводить задуманное предприятие там было явно неудобно: висело белье,
кругом была наставлена всякая дребедень. Нет, не жалко было покинуть этот мир!
Вид свисающих с веревок сохнущих трусиков, колготок, не новых бюстгалтеров
Мышки, жалкие мои спортивные "трикушки" -- все это укрепляло и
убеждало лучше любого агитатора. Пожалуй, тогда я по-настоящему ощутил, что до
смерти потрясает -- не сенсация, не шок, не какие-то там еще коллизии. Нет. До
смерти потрясает -- обыденность! Обыденность!!! Мы живем и не видим ее. А как
увидим...
Во мне звучал Реквием. Реквием всеобщей
любви и прощения. Хотелось разделить высокую патетичность трагического
мгновения. Я снова подошел к Мышке, не очень тщательно пряча за спиной
скомканную веревку.
-- Прощай.
Она подняла голову. Губы ее змеились.
-- Навеки. -- Добавил я тихо и обессиленно.
Мышка заинтересованно ждала. Прощание
не получалось. Приходилось вешаться без него. Я грустно побрел на кухню.
Деловым взглядом я окинул помещение,
которое совсем недавно вот этими вот руками отремонтировал... О-хо-хо! С охами
и вздохами поднялся на табурет, осторожно снял с крючка кухонный светильник,
поставил в сторонку, чтоб не разбить, если ноги вдруг будут дрыгаться...
Посетовал, что маловат крючок, ну ничего, другого все равно нет... Завязал
удавку... Приделал... Прочно ли получилось? Надо попробовать
сначала! Намотал
свободный конец веревки на руку, изготовился, пнул табуретку в сторону и --
повис всем телом. "Держит, стерва!" -- только и успел подумать под
грохот падающей табуретки. Потому что в следующее мгновение обрушился потолок.
Прямо на башку ахнул кусок застывшего цемента. Чертовы строители! Халтурщики!
Все на соплях! Голова загудела пуще прежнего.

Вот в этот самый момент и заявился
Мишаня.
-- На что жалуетесь? --
поинтересовался он с порога, видя, как я сижу на полу, весь обсыпанный
строительной трухой.
-- Вешается, сука, -- дала пояснения
жена.
-- Благородно, -- одобрил Мишаня. --
Не очень, правда, эстетично: язык выпадывает, харя цвет меняет... Есть другие
способы.
-- Какие? -- подал я голос. Посмотрел
наверх, на разрушенный потолок. Кухня осталась без света... О-хо-хо!
Самоуничтожение теперь придется на время отложить -- надо где-то доставать
алебастр...
-- У тебя алебастра нет? -- спросил я
Мишаню.
Мишаня ненадолго задумался, потом
просиял:
-- Гипс есть! Гипс с арматурой --
мертвая вещь! Быка повесить можно!
-- И откуда ты такой умный? -- ворчал
я, сметая обломки потолка в совок.
-- Белорусский еврей, -- с готовностью
пояснил Мишаня. Мать и отец у него, правда, были русские, но не в этом дело, не
в национальности -- в характере и темпераменте.
-- А перед тем как на тот свет
отправиться, тебе, случаем, кого-нибудь кокнуть не хотелось? Ну, друга или
врага? Ну, чтобы не зря самому-то помирать, не впустую? -- спросил Мишаня.
Я подозрительно покосился на Мышку, но
она держала глубокий нейтралитет. Так, по крайней мере, казалось.
-- Ну... были какие-то такие мысли...
Ведь если меня кто-то любит больше, чем себя, значит, он не должен пережить
моей смерти, я должен и об этом позаботиться... Ну... чтоб не мучился кто из-за
меня... -- пытался я сформулировать Мишане обрывки ощущений.
-- Шизофрения! Как пить дать --
шизофрения! -- обрадовался Мишаня.
-- Иди лечись, придурок! Пьянь
горбатая! Сволочь! -- Мышка опять потихоньку закипала. От нее исходило,
ощущаемое почти физически, какое-то невидимое нездоровое электричество. Мишаня
тоже уловил эту индукцию. Пора было линять, то есть сматываться. Но сматываться
было некуда и не на что. Поэтому изолировались на балконе, закурили. Солнце
давно уползло за гребни домов. Надвигался сумрак.
-- Ты должен убить или ее, или себя,
-- сказал Мишаня.
-- Ты так думаешь?
-- Зачем думать. Так в учебнике
написано. Все классически: взаимодействие взаимных пендюлей приводит к
летальному исходу.
-- Может, прыгнуть? -- спросил я Мишаню,
поглядывая вниз, на асфальт.
-- Благородно. Но сначала надо сходить
за гипсом. В травматологический участок. Очень удобно, ежели что...
-- Я не могу помереть раньше отца, --
сказал я. -- Связь какая-то! Жуть. Подумаешь, что старик переживет сына --
жуть!
-- Что да, то да, -- изрек Мишаня.
Потом мы заговорили на
"сладкую" тему -- о самоубийстве. Точнее, о благородных его способах.
То есть о заботе по самоликвидации трупа, чтобы не обременять родственников
печальным делом, да и финансовыми расходами тоже. Это даже не самоубийство, это
-- исчезновение... Так в детстве, когда наказывали, хотелось закрыть глаза и
кончиться: пусть, мол, узнают все, кого потеряли... Ребеночек мысленно
"помирает" -- репетирует от того, что вокруг сплошное внимание... А мы-то
от чего?! Уж не от обыкновенности ли? Не я один в нашей компании вешался...
О-хо-хо.
Вариантов "исчезновения" --
своих и чужих -- получилось много.
Шура, например, предлагал такой
способ. На берегу Камы он приглядел как-то -- в перерывах между пейзажными
набросками -- один обрыв. Обрыв был с секретом: всевозможные воды -- весенние и
небесные -- вымыли под верхним слоем корней просторную пещерку. Шура спустился
туда, держась за корни, улегся на глиняное крошево, и ему стало хорошо. С тех
пор он стал скучать по своей пещерке. Шуре нужно было небольшое количество
динамита, чтобы надежно подорвать земляной свод и захоронить себя от нескромных
глаз... Увы и ах. Нынче динамит для художников -- дефицит.
Птисе больше нравилось сгореть. В
угарном забытьи ему часто виделась одна и та же картина: в самой-рассамой
лесной глухомани находит, дескать, он достойную полянку. Не жалея сил,
стаскивает в одну огромную кучу сушняк, большие сушины тщательно перекладывает
хрупким сухим хворостом. Потом отходит в сторону, любуется созданным
произведением и, удовлетворившись, приступает к отходной трапезе: выпивает
стакан -- сжигает паспорт, выпивает другой -- сжигает военный билет, выпивает
третий -- сжигает диплом филолога. Каждое сожжение -- прощание с собой. В
растяжку, в рассрочку -- перед главным сожжением... И вот восходит он на
костер... Еретик и гений! И сладок миг взглянуть смерти в лицо один на один. И
-- улыбнуться. И в последний раз щелкнуть зажигалкой... И только услышать, как
хлопнут, взорвутся пары бензина... А дальше -- свет. Свет! Свет! Свет!
Молчаливый, пронзительный, вечный...
Видения всегда будили Птису среди ночи
и он, нецензурно изъясняясь, шел блевать к унитазу.
Мишаня рекомендовал комбинированный
метод. Зашиваешь сначала в одежду песок, железо, другие подходящие тяжести.
Потом садишься на край проруби спиной к воде и стреляешь себе в рот из
охотничьего ружья. Мозги разлетаются в пыль: быстро и безболезненно, а тело
автоматически тонет. Ружье, разумеется, следует привязать к руке или к ноге
прочным шнуром, чтобы оно тоже сползло вслед и кануло.
Я предпочитал вечнозеленую, могучую
ель. Есть такие. Огромные, сгущающиеся ближе к макушке так, что гляди-не гляди
-- не просвечивает ни зимой, ни летом. Вот туда надо взобраться и там... За
верхний сук привязать веревку, а на нижнем сидеть самому. Выпивать, конечно.
Как отрубишься -- так конец. Очень заманчиво!
-- Протухнешь. Вонько будет, --
засомневался Мишаня.
-- Ничего. Высоко ведь, не заметят. Да
и птички съедят...
-- Благородно! -- Мишаня повторял свое
любимое слово.
-- Мотайте вон из моего дома! -- вновь
объявилась Мышка, которая впотьмах попила чай на кухне и теперь излучала
отрицательное электричество со всей силой негодования.
-- Благородно... -- Мишаня хитро
глянул на Мышку: -- Я тебе, мать, совет один дам. Пока он, -- Мишаня кивнул на
меня, -- вешается в присутствии зрителей, не боись, не повесится. Вот когда
зрителей не надо будет, тогда -- верняк.
-- Благородно, -- сказал я.
-- Благородно, -- сказал Мишаня.
И мы заржали понимающе. Мышка прекратила
атаку, плюнула под ноги, развернулась и запечаталась в ванной.
-- Вешаться не будет? --
поинтересовался Мишаня. -- Попыток не было?
-- Были, -- вспомнил я одну из
истерик.
-- Благородно...
Мишаня рассказывал, как в морге
оттаивают замороженные мертвецы. Их ставят спинами к нагретой железной печке и
связывают за руки, чтобы не рассыпались. Мышцы и сухожилия после холодильника
оттаивают не одновременно, тянутся, распрямляются -- то есть связанные мертвецы
начинают шевелиться. А оттаивают их ночью... Это танец мертвецов: приседают,
наклоняются, выпутываются из связки...
А еще в подвале института спятил с ума
сторож-варщик, который по ночам в огромном котле варил бобылей-мертвецов в
научных целях -- для создания впоследствии учебного пособия, скелета. Он давно
варил, привык уже, но тут по пьянке забыл плотно закрыть крышку котла. Когда
забурлило, мертвец выскочил и упал прямо на бедного старика. Сильно ошпарил и
лишил ума.
А еще на всесоюзном ленинском
субботнике Мишаня вылавливал цельных мертвецов и их отдельные части из ванны с
формалином...
-- Я слышал, что труп можно продать
при жизни? -- спросил я.
-- Можно. Двести рублей штука, --
заверил Мишаня. -- Можем устроить. Правда... -- он критически окинул мои телеса
взглядом, -- труп не сказать чтоб важнецкий, но ничего, школярам сойдет.
Мысль о том, что собственный труп
можно пропить, наполняла жизнь удивительным ощущением пользы, ненапрасности
всего и -- черным оптимистичным зарядом юмора.
И мы пошли в травматологию за гипсом. На
трамвайной остановке я вдруг хватился:
-- Слушай! А вдруг с Мышкой там чего?!
-- Вернешься -- посмотришь, -- резонно
заметил Мишаня.

Сохрани и помилуй нас!
Из-за того что так или иначе, но
каждый из нас по-своему заигрывал с небытием с дилетантских в общем-то позиций
типа "отрежьте мне уши -- пусть маме будет хуже", то мор, напавший
вдруг на Контору, мы встретили во всеоружии. В диапазоне от сорока до
семидесяти -- работающие и пенсионеры -- засобирались, точно сговорившись,
туда,
откуда не возвращаются.
Умирали один за другим, с регулярностью конвейера. Мы научились носить гробы и
даже начинали скучать, если очередной клиент задерживался. Жмуров мы полюбили
за бесплатную выпивку.
В очередной раз Птиса приволок с собой
безусого пацана. Вид у мальчика был ангельский. Мальчик был трезв в отличие от
своего "водителя".
-- Ху из ит? -- спросил Ломов,
владеющий английским в пределах программы восьми классов.
-- Из ит -- Малый. Он меня так вместо
нейма зовет, -- сказал мальчик и поскреб Птису по затылку запанибрата.
-- Учишься ли, чо ли? -- снова спросил
Ломов.
-- Ага. В девятом.
-- Малолетность, значит, -- насупился
Ломов, читавший Уголовный кодекс РСФСР в подлиннике. -- А чо умеешь?
Носительством гробов никогда не занимался?
-- Ничо не умею, -- передразнил Ломова
Малый. -- Ну и чо! -- Научусь!
-- Где он тебя выкопал? --
поинтересовался я. Сам Птиса и в добрые-то времена членораздельно не отвечал.
Не потому, что не мог или не умел, нет, просто всегда ему до того много и сразу
хотелось сказать, что мы слышали вечное: "Эдак и-и-и-ить! Ты же, зараза...
Эть! Ыть... Не понимаешь! Ыть!" Но уж кто-кто, а мы-то знали: за каждым
междометием стоит -- интеллект. Огромного ума человек! Он от избытка мыслей
говорить разучился. Все от книжек!
-- Он мне книжки читать дает, --
подтвердил Малый общую догадку.
Подошли еще двое: Шура и Мишаня.
Шестеро.
Похороны на сей раз были с любопытным
уклоном. У сотрудника Конторы скончалась дальняя родственница, верующая в Бога,
одинокая бабушка, к которой успели-таки прописать на жилплощадь кого-то из
детей и теперь, обремененные показательной благодарностью и долгом, исполняли
последнюю волю усопшей. А именно: бабку надо было тащить отпевать в церковь. В
таком спектакле мы еще не участвовали.
-- Пора, -- сказал Шура. И глаза его
наполнились деловой тревогой и картиной безмерного сочувствия. Мы тоже все
посерьезнели и двинулись из подъезда гуськом в квартиру. У Птисы на висках
вздулись жилы: он держал равновесие. Малый вертел головой.
Этаж был приличный, девятый. Мы заранее
готовились к маяте с гробом на узких лестничных маршах.
Шура первым врезался в толпу
провожающих старушек, как господь-распорядитель. Толпа покорно расступилась. В
гробу лежала сухонькая, очень аккуратная покойница с благостным выражением на
лице; в руках, обтянутых просвечивающей пергаментной кожей, торчала тонкая
горящая свечка. Чувствовался запах горения. Мы переглянулись обрадованно:
старушка маленькая, нести будет легко!
Шура откинул покрывало и пожал бабке ноги.
Непререкаемо сказал, обращаясь к нам:
-- Сделайте то же самое!
-- Зачем? -- громко заявил о своем
непонимании Малый.
-- Так надо, -- весомо надавил
суеверный Шура.
Мы по очереди подержались за
покойничьи носки. Живые бабки сдержанно гоготали, как неспящие гуси в ночной
стайке. Их мутные, но цепкие глазки ревностно следили за допустимостью
происходящего.
-- Родственников и сочувствующих прошу
прощаться! -- громко , с достоинством и органно-трагичными нотками в голосе
объявил Шура. Среди бабок произошло шевеление, они зашаркали, подталкивая друг
друга, целоваться с холодным телом бывшей подруги. Наклонялись, истово
прикладывались к губам, истово крестились.
-- Негигиенично, -- прокомментировал
нам Мишаня, -- хотя сохранность, конечно, хорошая. Вообще, божьих людей в морге
вскрывать одно удовольствие! Чистенькие!
-- Понятно... -- загадочно-понимающе
произнес Шура.
Внизу засигналил нанятый
автобус-грузовик.
-- Пора! -- опять громко сказал Шура.
Бабки завыли на тихой высокой ноте. -- Птиса! Малый! Берите крышку, несите
вперед! -- командовал Шура, не отпуская с лица трагичности. Вне всякого
сомнения нами было определено: чем трагичнее рожи -- тем больше подают на
поминках.
-- Эдак... Э-э-ить! -- подал голос
Птиса.
-- Держись за гроб, не упадешь, -- посоветовал
я ему. Птиса услышал, внял, но ухватился неудачно и чуть не уронил всех вместе.
-- Двери держи, мудила! -- зашипел на
него Шура. После чего Птиса припал к дверям и не шевелился.
Ломов оказался в головах. Я -- на
подхвате.
-- Приятственный жмур! -- сказал
Ломов, в упор разглядывая сушеную головку с реденькими седыми волосами на
маленькой подушечке. Головка легко переваливалась справа налево и слева направо
вслед за качаниями гроба. Квартира была малогабаритной, двери узкими,
приходилось изворачиваться.
-- Минимум социалистической жизни
больше минимума социалистической смерти: не-у-доб-ствен-ность! -- прокряхтел
Ломов, беря гробешник на плечо и с перекосом.
-- Э-и-ть! -- заорал придавленный
дверью Птиса.
-- Кажется, тут скоро будет еще один труп,
-- пошутил Малый. Но шутку не поддержали, потому что Птиса явно нахлебничал и,
чтобы оправдать свое нахлебничество привел Малого. Этакого денщика-переводчика.
Умен, стервец.
Бабки спускались впереди нас с
песнями. Шли жуть как медленно, в час -- по ложке!
Свя-я-ты-ый Бо-оже!
Свя-я-ты-ый кре-е-е-пкий!
Свя-я-ты-ый силь-ный!
Сохрани-и-и и поми-и-илуй нас!
Допев до конца эти строчки, бабки тут
же начинали их петь с начала. Эта сказка про белого бычка походила на
шаманство. Со стороны, может, даже и красиво выглядело. Но нам тащиться по
лестницам черепашьим шагом из-за того, что бабули хотели растянуть прощание,
совсем не светило.
-- Шевелись, старче! -- пытался
подбодрить и придать темп шествию Мишаня. Но старушки даже ухом не повели:
Свя-я-ты-ый Бо-оже!
Свя-я-ты-ый кре-е-е-пкий!..
-- Крепкие ребята, -- одобрил Малый
бабуль.
Позади всех, замыкая процессию, с
пустыми руками шел икающий Птиса.
Одолели три этажа -- сверху вниз. И --
застопорились. Между шестым и пятым этажами печальная процессия встретилась с
радостной процессией -- потные мужики тащили наверх здоровенный коричневый
рояль. У них как раз был перекур.
Между перилами и роялем была узенькая
щель, куда и просочились поющие бабки, миновав препятствие благополучно. А
миновав, замерли, поджидая подружку в гробу и не прекращая пения...
Святы-ый Бо-оже!
Свя-я-ты-ый кре-е-е-пкий!..
-- Ни хрена себе! -- выразил общее
замешательство Ломов.
-- Помогите! -- обратился я к
отдыхающим мужикам.
Они ответили почти хором:
-- Идешь ты пляшешь! В лифт грузи!
Оказывается, Птиса догадался о том,
как выйти из затруднения, раньше всех и уже вызвал лифт. Он держал его
автоматические створки ногой, а руками и мимикой делал нам отчаянные знаки к
возвращению. Бабки поняли наше намерение и загалдели, разделившись на голоса:
часть из них продолжала петь.
-- Антихристы! -- самые проворные
хотели было рвануться назад, чтобы воспрепятствовать святотатству. Но мужики
оперативно подвинули рояль на десяток сантиметров, и проход закрылся.
-- Не бзди, бабки! При жизни ездила и
сейчас прокатится напоследок! -- весело утешали старух мужики.
Бабки с воем пошли на приступ.
-- Бегом! -- скомандовал Шура. И мы,
чуть не зашибив по пути икающего Птису, воткнули гроб "на попа", дав
ему возможный наклон. Бабка поползла вниз, но, дойдя ногами до пола,
остановилась, поскольку окоченевшее тело держало. Правда, голова у бедняжки
заломилась, подушечка упала на грязный пол лифта.
-- Нажимай, б...! -- изрек первые
человеческие слова за сегодняшний день врубившийся в обстановку Птиса.
Двери хлопнули. Лифт пошел вниз без
сопровождающих. Мы с грохотом бросились догонять "посылку". Но не
успели.
-- А-а-а-а-а! А! А!!! А-ааа-а!!! --
перед дверью лифта на первом этаже стояла толстая женщина с авоськами в руках и
орала в самозабвенном безумии; в то время, когда она только хотела шагнуть,
навстречу ей из лифта-гроба сползла ногами вперед наша старушка. Тогда я воочию
убедился, что волосы могут вставать дыбом. -- А-а-ааа!!!
...Отпевали "клиента" в два
захода: сначала внутри церкви, потом -- снаружи. Каждый заход -- по часу, не
меньше. Потому что старушка оказалась не простой хухры-мухры, а Святой
Августиной, завещавшей все свои сбережения христианскому дому. Как тут было не
постараться!
Мы заскучали. Ломов приблизился к святым
картинам, но его интерес тут же блокировал какой-то церковный дядька:
-- Отойди от изображений, сын мой!
Отойди от священного места! -- Дядька напирал без передыху.
-- Не может быть священности в
изображенности, -- попытался было завязать диалог Ломов. -- Вот в обнаженности
священности сколько хочешь, потому что голость естественна, а изображенность...
-- Изыди! -- прошипел дядька.
-- Ладно, -- сказал Ломов миролюбиво.
Сильнее других скучал Птиса.
-- Плохо ему, -- довел до нашего сведения
Птисино состояние Малый-денщик.
-- А ты у него формулятор? -- спросил
Ломов.
-- Формулятор, -- серьезно ответил
Малый.
Мишаня, Шура и я с любопытством
слушали речь попа, когда из-под поповской руки неожиданно вдруг вырос Птиса.
Поп перестал читать и гневно просверлил наглеца горящим взглядом, призывая к
порядку и уважению. Птиса, прошедший куда более суровые испытания, от взглядов
не горел. Он сам просверлил попа глазами и внятно произнес, дохнув хроническим
перегаром:
-- Завязывай... э-э-ить! -- зараза...
Поп зажал в побелевшей руке тяжелый
крест, но Птиса исчез с той же беспардонной непонятностью, как и появился. Поп
судорожно вздохнул и продолжил обряд:
-- Во имя отца и сына и святаго
духа...
Ждать больше не было никаких сил. И
тут -- повезло. Бабкин родственник-хоронитель отозвал нас в сторонку и выдал,
видимо из завещанных на погребение фондов по пятнадцать рублей каждому. Ай да
бабуля! Жизнь вмиг приобрела вкус и вес. Точнее, по вкусу она сделалась как
водка из "Рюмочной", что исправно функционировала во дворах,
неподалеку от церквушки, а по весу тянула граммов двести. Для начала.
Индивидуально. Исключая Малого.
Малому предлагали, но он отказался
сам:
-- Мне нельзя, у меня еще половое
созревание не закончилось. И умственные способности не оформились.
-- Э-и-ть! -- с вызовом посмотрел на
нас, дураков, Птиса, абсолютно гордый за своего мальчика. За силу духа, точнее.
Дескать, не все еще потеряно, вот, мол, она -- надежда наша!
...Во дворе бабулю обмахали кадилом,
еще над ней поговорили по книжке и без книжки и, наконец, забили гроб гвоздями.
Это тоже было странно, потому что мы привыкли, что гробешник пакуют обычно на
кладбище.
-- Герметично... -- проверил работу
Мишаня. -- Ну, взяли, что ли.
От ворот церкви до автобуса-грузовика
надо было идти метров двести. Шли не спеша, как прогуливаясь, с выправкой
знатоков. Я даже закурил. По людной улице устремленно куда-то торопились
сограждане, из троллейбусов пялились на нас пассажиры-зеваки. А мы шли
независимо-возвышенные с нетяжелой ношей на полотенцах -- Святой Августиной.
Даже Птиса, казалось, был счастлив и улыбался, придерживаясь для крепости
собственного хода за плывущий над мирской суетой гроб.
Могилу копали не мы. Мы только
закапывали после того, как опустили. Насыпали холмик. Шура -- с лопатой в руках
-- оформил памятное земляное возвышение по художественным меркам, в которых мы
ничего не понимали и не совались. Птиса сидел на соседней могилке и копил силы.
-- Богато... -- неопределенно
отозвался Мишаня, окидывая панорамным взглядом кладбищенский простор.
-- Все там будем! -- заключил Шура
сентенцию.
-- Э-и-ить! -- из глаз у Птисы
полились слезы.
-- Гады. Довели мальчика, -- сказал
Малый.
Мы подхватили Птису под руки и понесли
к автобусу-катафалку ехать на поминки.
В столовой, где справлялся
заключительный акт провожания в мир иной, бабульки сели в самый дальний от нас
угол. Но это их не спасло. После нескольких пропущенных в хорошем ритме внутрь
порций Шура с Мишаней поднялись над столом, дирижируя. Мы хором заголосили:
Св-я-я-я-тый Бо-о-о-же!
Свя-я-я-тый креп-п-п-п-кий!
Свя-я-ятый си-ильный!
Сохр-р-р-р-ани и пом-м-мм-илуй нас!
Святый Бо-о-оже...
Хорошо, что мы успели спереть с других
столов и рассовать по внутренним карманам кто пузырь, а кто и два. Из столовой нас
выгнали быстро и с треском.
-- Психологическая несовместимость.
Сволочи, -- беззлобно сказал Мишаня. И мы понесли Птису к Птисе домой, надеясь
тем самым заработать для компании дальнейший приют.
Святы-ы-ый Бо-о-же!
Святы-ы-ый кре-е-е-пкий...
Орали мы с Малым на весь квартал,
упиваясь собственной антиобщественной удалью. Мы замыкали шествие. Птису несли
перед нами, носками ботинок он шебуршал по асфальту, а очухавшись на
секунду-другую, поджимал ноги из озорства, повисая на натруженных за день плечах
друзей. И тогда друзья злобно матерились.
Святы-ый Бо-о-о-же!
Свя-я-ятый кре...
Подъехал милицейский фургон. Из окошка
высунулся веселенький милиционер.
-- Подсобить? -- кивнул он на Птису.
Мы радостно, в тон загалдели:
-- Спасибо! Справимся! С похорон идем!
-- А! -- понимающе сказал милиционер,
и его молодое приветливое лицо деревенского парня исчезло. Машина газанула и
ринулась на свой тяжкий промысел по сбору алкоголиков. Мы радовались, что все
идет так, как и должно быть -- лихо и здорово. Все-таки мы крепко стояли на
своих двоих. Мы были уверены в этом на все сто!

Баб ненавижу!
Кол жил в сыром подвале. Кол -- это
производная от полного отчества Николаевич. Кроме Кола в том же подвале
существовали еще две молодых семьи. У всех были дети. Кухня была завалена
тряпками и утварью до невозможности. Но жили относительно мирно. Общий туалет
имел электрическую сигнализацию занятости: при посадке на "очко" на
двери загоралась маленькая неоновая лампочка. Готовили на электроплитках.
Задыхались от недостатка вентиляции.
В свои двадцать семь лет Кол имел
лысину, напоминавшую об армейских мощностях на высоких частотах, имел
законно-безоконный угол, милую жену-брюнетку и такую же милую уменьшенную копию
жены -- дочку. Кол был энергичен и надеялся выбраться из-под земли. До
недавнего времени в этой же комнатке с семейством Кола жил здоровенный
мосластый черный дог, но с собакой пришлось расстаться... Кол не просто
переживал расставание с четвероногим другом, Кол -- болел! Душу Кола выедала
тоска предательства, и поэтому временное облегчение приносил лишь
сорокоградусный бальзам. В углу, как невыносимое напоминание, все еще лежал
матрас, имеющий желтоватые разводы и источающий запах псины. Выпив, Кол уже который
вечер ложился на подстилку и отказывался
вставать. До
протрезвления не помогали никакие уговоры.
Кол всегда хотел, чтобы с ним
считались. И, может, поэтому врал не задумываясь. Врал, себя не жалея. Врал,
чтобы украсить жизнь. Врал и верил. За то и любили его: честно врал, как на
исповеди! Поэтому -- когда он опускался
до прозы жизни и говорил просто -- от каждого слова тогда веяло усиленной
печалью безысходности. В общем, его "сбрасывало": то слезы, то смех.
В Конторе о домашних проблемах Кола мы
знали плоховато, потому что в гости он приглашал редко, а в устной
интерпретации его личная жизнь выглядела в высшей степени оптимистично.
...Деться было некуда. Мышка не
пустила меня в дом, и я на последнем, наверное, трамвае дотрясся через весь
город до знакомого подвала, заполняя время тем, что припоминал чрезвычайной
правдивости байки, слышанные из уст хозяина катакомб.
-- Чего там! Пацанами еще были --
нашли гранату, -- рассказывал нам Кол, еще раз прилюдно переживая потрясения
детства. -- Ну, и куда теперь с ней? Взрывать ведь надо! А кому на тот свет
охота? Пацаны-пацаны, а -- понимаем, не пальцем деланы. Ладно. Пошли на речку,
на берег, железа там всякого полно валяется. Один у нас постарше был, дернул за
чеку, а бросить не может -- испугался, околел будто. Ну, я подскочил, гранату в
песок, а сверху, откуда только сила взялась, -- железную толстую плиту
надвинул. Тут она, рядом была. Ребята наши по кругу стоят, тоже остолбенели. А
я с этим... сверху на плиту прыгнул. Тут и рвануло. Я спружинить успел... На
середину реки отбросило, чуть не утонул от оглушения... А тому -- ноги сломало.
Кое-кого из ребят зацепило, двоих убило даже.
Мы слушали. Только Ломов всегда
ворчал:
-- Бездоказушно. Не проверить ведь.
-- А я -- живой! Это не
доказательство? -- кипятился Кол.
Потом следовал перерыв и продолжение,
или продолжение без перерыва.
-- Вообще, сибиряки -- народ
смекалистый, -- намекал Кол на свою сибирскую родословную. -- Рисковали! Без
риска у жизни вкус не тот! Вам этого не понять: по тебе стреляют, а ты все
равно золотой песок намываешь... Его у нас там, песку-то этого, хоть лопатой
греби -- полно!
-- Намыл? -- спрашивали мы
заинтересованно.
-- Я когда-нибудь что зря делал? --
обижался Кол.
-- А где он у тебя?
-- Да лежит где-то дома в коробочке.
Валяется, пригодится, может. Грамм триста будет... -- Кол хмурился,
сосредоточившись, мысленно переводя объем на вес. -- В папиросной коробке
лежит. Подсудное дело!
И еще я запомнил устройство
"дровокола", которым сибиряки спокон веку колют неподатливые, в три
обхвата сучковатые кряжи. Пилят, как положено, пилой, а вот колют -- по-своему.
"Дровокол" -- это такая трубочка, которую надо слегка вбить в
неподатливое, богатырской крепости дерево; внутри трубочки имеется специальное
сквозное отверстие диаметром 7,62 мм -- как раз под автоматный патрон.
Вставляешь в отверстие сверху такой патрон и обухом по капсюлю: тр-р-рах!
Готово! -- получайте раскол: чисто и без осечек.
-- Я от отца еще научился, -- пояснял
рассказчик.
-- А где вы патроны-то автоматные берете?!
-- изумлялись мы.
-- Да у нас там этого добра завались!
И лично я был свидетелем, когда Кол,
напившись однажды, на юбилее ветеранов Великой Отечественной войны, сидел в
обнимку с Героем Советского Союза и рассказывал ему о том, как ходил связным у партизан.
Герой стучал своей старческой лысиной в лысину Кола при особо сильных моментах
объятий. Братание закончилось тем, что Герой и Кол неудержимо заплакали прямо
за столом. Родился Кол через два года после войны, кстати...
Непосредственный был Кол человек,
откровенный. Он не подыгрывал, он жил так. А потом он шел в подвал, брал дочку
на руки, рассказывал всем: где был, что делал. Без тренировки и не заметишь,
что выпил -- крепок был на питье, черт!
...Я постучал в фанерную дверь. Тихо.
Невольно начал нервничать: неужели никого? Еще постучал. Еще. Нажал осторожно
-- дверь открылась. В комнате горел свет, голый какой-то, неприятный, текущий
от обнаженной одинокой лампы под потолком. На полу стоял недопитый стакан,
рядом -- пустая водочная посудина. На собачьем матрасе, пластом, лицом вниз
лежал неподвижный Кол. Больше в комнате не было ни души. Собственно, отсутствие
женщины-хозяйки снимало все этические неудобства, то есть не могло не радовать
ночного скитальца.
-- Кол... Это я... Квадратный метр
и... -- тронул я товарища за плечо.
Он соскочил неожиданно резко, по лицу
его гуляли нервически судороги. Кол был изрядно небрит. И точно: я его в
Конторе что-то последние дни не видел... Надо же, как тихо слинял -- уметь
надо! -- никто не хватился... А чего это он такой психованный?
Кол вцепился в меня, будто собирался
побить:
-- Баб ненавижу!!! Всю их породу
поганую ненавижу! -- Кола аж затрясло.
Я подумал, что сюжет банален: Кол
явился, а она -- с другим, тем более, что ревнивость Кола была куда выше среднепринятой.
Не Отелло, конечно, но все же...
Кол был неузнаваем. Я впервые видел,
как он искал сочувствия. Но не мог понять: где именно и в чем надо
посочувствовать.
-- А что случилось-то? -- спросил я,
скосив глаз на стакан.
-- Пей, еще есть, -- засек он мои
зрительные манипуляции.
Я выпил.
-- Стерва! Такое паскудство! Я же для
нее... Слушай! Ты поймешь. Ты свою любишь? Не важно... Все равно ты поймешь...
Если бы ты сейчас не пришел -- все бы кончилось! Спасибо! -- он полез обниматься.
Выпив и зная, что выпивка еще есть, я приготовился сочувствовать до
бесконечности. -- Стерва! Слушай сюда. Девочку усыпили, телек поглядели, хоть и
не кажет в этой норе... Чаю попили, на топчан наш легли... Я из района
вернулся, два дня ее не видел, голодный, -- обнимаю, люблю ее что себя не
помню... В самый такой момент слышу, спрашивает что-то... Что? Не слышу! Кровь
в ушах тукает. Потом дошло: "Милый, ты чайник на плите выключил?" --
спрашивает. Стерва! В такой момент! Я жизни не помню -- ее хочу, а она... Ты же
знаешь, я горячий, если что. В общем... бил я ее. Зверски бил, себя не помнил.
Соседи прижегали, когда она заорала. Прибежали, связывать меня голого давай!
Девка орет! -- Он вынул из-под матраса нераспечатанную бутылку. -- На. Сделай. Я
не могу, руки трясутся.
Я "сделал".
-- А она? -- спрашиваю.
-- Стерва! Ушла. Заявление в участок
накатала. Разводиться будем. Стерва!!!
-- Зря, может? Я вот терплю.
-- Это твои заботы. Хотя я бы на твоем
месте твою стерву давно уж убил бы... А моя-то, моя-то! Я, говорит, замуж
выходила не для того, чтобы псиной в трущобах дышать. Дрянь! Ты, говорит,
болтун проклятый, так и будешь всю жизнь своей очереди ждать. Не хапнешь -- не
получишь... Гадина! Не могу без нее!
Постепенно тон его разговора успокоился,
и мы стали размышлять на тему заявления на суде: оставить, мол, ребенка отцу.
-- Ловить нечего, -- сказал я, -- с
тех пор, как бабы получили как бы равные права с мужиками, мужики сделались
полностью бесправными. Куда ни кинь -- все клин.
-- Точно! Не по совести судят -- за
хрен судят!
-- А на хрена нам такой суд?
-- Точно. На хрена! -- и Кол, добавив
в организм огненных градусов, опять ничком повалился на собачий матрас, чтобы
тешиться в своем семейном потрясении. -- Стерва! Ненавижу! Всех баб ненавижу!
Через некоторое время я случайно
подслушал Кола на одной из вечеринок. Были танцы, и мы топтались рядом, каждый
в обнимку со своей дамой. Кол говорил:
-- ...нет, не женат. Был женат... Моя
жена погибла при землетрясении. Я очень любил ее... -- И дама прижималась к
Колу еще сильнее, готовая на тепло и самопожертвование.

Однажды...
...Однажды ребята уговорили меня снять
со сберкнижки сотню. Момент и вправду был критический, тяжелый, утренний,
сердце останавливалось. На вкладе находилось триста рублей, которые достались
мне после смерти матери и служили вечным поводом для насмешек: сберегательная
книжка была только у меня, хоть и не по своей воле -- по наследству.
-- Буржуистость надо искоренять! --
сказал Ломов. И все его поддержали.
Мы табуном пошли в сберегательную
кассу. На душе у меня было паскудней некуда: с одной стороны, я чувствовал себя
мерзавцем и предателем, с другой -- просто болел. Ноги в коленях все
подгибались, руки тряслись, и пот заливал мутные печальные глаза. Жаль было пропивать
мамины деньги.
-- Шевели кривошипами! -- подбадривали
меня друзья.
В кассе неожиданно выяснилось: если я
еще кое-как, царапая авторучкой каракули, могу заполнить бланк-требование, то
подпись, идентичная той, что имеется в "контрольке" -- не удается. Не
похожа подпись!
-- Не волнуйся, старичок, расслабься,
все хорошо... -- уговаривал меня Шура-художник, в десятый раз заполняя
каллиграфическим почерком очередной бланк-требование. Мне оставалось лишь
подмахнуть. -- Ну, давай. Не торопись... спокойно, старичок, спокойно...
Я изготовился, чиркнул.
-- Похоже?
Все наклонились, чтобы рассмотреть
подпись. Мишаня стоял у окошечка кассы, объясняя женщинам затруднительность
ситуации:
-- Понимаете, он нас позвал, чтобы
стиральную машину донести. Сейчас покупать пойдем. А у него припадок. Бывает,
знаете. Болезнь не спрашивает...
Женщины начинали было входить в
положение, но, чуя запах перегара, по-матерински настораживались:
-- На выпивку небось?
-- Да нет же! На машину!
-- Больной он, расписаться не может...
Когда сможет -- машин не будет...
Упражнялся я в подделывании
собственной подписи, как мне показалось, не меньше часа. Иногда было слышно,
как посетители отпускают в наш адрес несолидные реплики типа: "Алкаши
проклятые! Ну молодежь!"
-- Не торопись, старик, спокойно...
попробуй еще раз...
Наконец, Ломов сообразил:
-- Распишись ты, Шура. Долго тебе
нахудожничать?!
Шура потребовал мой паспорт и быстро
скопировал что нужно.
Я, обливаясь потом, без передышки, на
вихляющихся конечностях подплыл вновь к окошку выдачи. Потренировавшись на мне
в молчаливом презрении, тетенька выдала желаемые сто рублей. С бурными
"спасибами" мы вылетели вон.
-- Мы его обязательно вылечим! --
заверил напоследок работников кассы Мишаня.
И вот ведь что обидно! Только мы
засели на квартире у Заводского Друга, только влили в меня первый стакан
"крепленого красного", только Мишаня выразил общее врачебное мнение:
"Отпустило!", как Шура подсунул бумагу:
-- Ну-ка, распишись!
Я расписался. Лихо и с закорючкой.
-- Чего ж не мог-то?
-- Болел... -- сказал я тихо. До
смерти было жаль маминых денег. -- Сволочи мы все-таки...
-- Конечно, сволочи! А ты не знал? --
на меня в упор с полным пониманием круглым вороньим глазом смотрел мудрый
Ломов.
...Однажды Мишаня танцевал шейк. Был
такой танец. И так, и сяк прыгал: не подходи -- зашибет! Музыка гремит, Мишаня
в центре круга под всеобщее восхищение скачет. Мы с ним в туалете Дворца
культуры минут двадцать назад бутылку водки на двоих дернули. Без закуски. Под
сигарету.
Мишаня закосел, пока
танцевал-вертелся. Не удержался, потерял равновесие на повороте -- упал. Со
всей силы затылком об пол. Все думали, что разбился, сознание потерял. А Мишаня
лежит на полу, глаза от боли закрыл, но продолжает дрыгаться -- в такт музыке.
Мол, прием такой танцевальный...
Потом объяснил:
-- Японский синдром. Японец если
рассказывает о покойнике в своем доме, -- улыбается. Чтобы тому, кто слушает,
легче было слушать о чужом горе... Вежливые ребята! Тонкое дело!
Японец-Мишаня не хотел портить общего
веселья. Благородно!
...Шеф в нашей Конторе тоже был выпить
не дурак. Но ему, несчастному, надо было таскаться на какие-то совещания,
принимать людей у себя, докладывать вышестоящему начальству лично... А как
докладывать "лично", если от тебя несет? Приспосабливался: полоскал
рот валерьянкой, дескать, приступ был только что, жевал мускатный орех или --
попросту врал по телефону, чтобы отсидеться. Маскировка спасала не всегда, и
тогда шеф всем нам на радость и сочувствие -- гремел и трясся. Хотя о
"соответствующих мерах" и партийных клизмах мы узнавали, как правило,
из вторых рук.
Однажды произошла его встреча с нашим
Заводским Другом. Эта встреча надолго превратила служебную жизнь шефа в
анекдот. Заводской Друг подарил шефу пузырек очень вонючего экстракта --
"лавровое масло".
-- Полощи. Глотать не надо.
Шеф глотал. Для пущей верности. Хотя
мощный лавровый дух надежно отбивал любой запах, и чужое любопытствующее
обоняние не получало желаемой информации. Вонял шеф потрясающе! Осмелел. Воняли
стены в его кабинете, воняла одежда. Если шеф заходил в автобус, то через пяток
секунд в салоне устанавливался стойкий запах свежесваренной ухи. Кабинет шефа
находился на третьем этаже. Ухой воняло на первом. Воняло в несколько раз
сильнее, чем из открытой двери мужского туалета.
-- Вот это подарок! -- радовался шеф
своей морально-нравственной неуловимости за счет лаврового масла. Ну, прямо,
как дите, радовался.
...Однажды Махамоля уехала в
командировку на целую неделю. Ломов тут же протрезвел и перестал появляться в
компании. Просил также и его избавить от визитов.
-- Зачем заниматься попительством,
когда можно насладиться одиночеством, -- приводил Ломов резонный довод. Как бы
не понять!
В одиночестве Ломов смотрел телевизор
и читал книги. День читал, два читал, три читал, четыре читал и пять -- читал.
На шестой день Ломов решил изменить Махамоле. Не для утоления накопившейся
страсти, а для того, чтобы отомстить как бы за все обиды. Он надел вечером
штанишки попижонистей и вышел из коммуналки наружу. На центральной площади
Ломов долго и привередливо выбирал взглядом жертву и орудие мести. Наконец,
выбрал. Это была стройная, неприступной красоты и с печатью святой непорочности
на лице -- медленно плывущая над асфальтом блондинка.
Ломов сделал крюк и зашел в лоб,
преградив блондинке траекторию полета.
-- Айда е...! -- с вызовом сказал
Ломов открытым текстом.
-- Айда, -- ответила она сразу. -- А
где?
В глазах у Ломова потемнело. Он больше
не верил ни в святость, ни в непорочность. Будто рухнул в жизни последний
идеал, последняя надежда на порядочность, ну хотя бы на сопротивление.
Отчаявшись, в своей невыразимой скорби-открытии Ломов махнул рукой и,
отвернувшись, провожаемый взглядом непорочного недоумения, побрел куда глаза глядят.
Оставшиеся до приезда Махамоли двое
суток Ломов пил в одиночку. По-черному пил.
...Однажды я случайно погулял на
цыганской свадьбе. Впечатлений набрался выше крыши! За столом я сидел с
цыганом-ветераном, вся грудь которого была увешана орденами и медалями. Время
от времени этот старик в расцвете сил отпускал меня от себя, и тогда молодые
парни тянули выпить в другие комнаты -- свадьбу справляли в многокомнатной
городской квартире, -- а хрупкие озорные руки чернооких девчат неожиданно
ложились на плечи: танцевать! О! Все это было бесподобно. Романтическим
школьником я, помнится, бредил цыганщиной -- вечным скитанием, вечной
свободой... И вот -- сбылось! Эти цыгане не были похожи на торговок и торгашей
с базара. Это были вполне цивилизованные, умные, давно оседлые люди. Но! Все
равно -- цыгане! Гуляй, ребя!
В Контору на следующий день я приперся
только к вечеру. Приволок с собой "сухача".
Сели.
Карасим попенял:
-- Мог бы и позвонить. Где ты, что ты?
Волнуемся же...
Я сбивчиво стал живописать цыганскую
свадьбу. Постепенно мой восторг передался остальным.
-- Я бы за цыганку ничего, старик, не
пожалел! Гадом буду! -- сказал Шура.
Карасим мечтательно курил:
-- Да... Цыганка -- это вещь!
-- Цыганистость не исключает принципа
бабскости. Та же баба, только с экзотикой, -- сказал Ломов.
И наши взгляды устремились куда-то за
окно, куда-то сквозь давно немытые стекла; убогой и неприютной показалась всем
вдруг наша испытанная комнатеха на третьем этаже Конторы.
-- Пошли! -- сказал я. Карасим
нахлобучил на глаза новую шляпу и вцепился в свой здоровенный портфель. И мы
пошли.
Свадьба продолжала гулять. Меня узнали
и вновь приняли со вчерашним радушием. Тут же обнаружились друзья, которых тоже
приняли. Только застенчивый Карасим перед самым подъездом вдруг заупрямился:
"Нехорошо, неудобно, никто не звал, нельзя на халяву..." Карасима
оставили одного у подъезда. Сказали, обнадежив:
-- Щас вынесем.
Было, кстати, начало зимы. Не тепло.
Особенно в шляпе.
В первую минуту наша компания выпила
за здоровье молодых, которых я не мог опознать, потому что не знал их и в
первый день своего пребывания в веселом месте. Во вторую минуту Ломов попытался
спереть бутылку, но был вежливо пойман, на пятой минуте Шуру начали бить за то,
что он лапает чужих девок.
Цыган с медалями, старик в полном
расцвете сил вытурил, и нас, и своих парней в подъезд разбираться. Тут же,
конечно, помирились. Стали разливать дальше, уже стоя на лестничной площадке
прямо перед входной дверью на первом этаже. Пробовали запеть романс под
руководством Шуры. Про Карасима мы забыли. Однако он сам напомнил о себе.
Дверь неожиданно распахнулась, и на
пороге возник, как -- не приведи господи -- привидение, -- весь заиндевевший,
клацкающий от холода, обиды и возмущения зубами, в шляпе и с портфелем -- наш
Карасим. Еле выговаривая от трясучки слова, он произнес с праведным гневом
самое-самое, что успел накопить на морозе:
-- Я секретарь партийной
организации!!! Я... Вы...
Явление Карасима цыганам было решающим
в борьбе за бутыль на вынос. В дом нас больше не пустили, но с собой -- дали.
Брагу, кажется.

...Однажды Карасим подобрал собачку.
Болонку. Роясь в густой, перепутанной шерсти, определил пол, назвал Тишкой.
Вскоре у Тишки обнаружились признаки беременности. Как-то Тишка на небольшой
реке попал в водоворот и стал тонуть. Карасим прыгнул в ледяную воду и спас
Тишку. Что-то в образе Карасима неуловимо изменилось для нас. Теперь мы
говорили: Карасим и Му-Му.
...Однажды Ломов поехал в Казань. В
Конторе ему на дорожку выдали шуточную "лицензию": "Дана
гражданину Ломову, половому басмачу, гомовержцу, эротоволку, санитару каменных
джунглей и истребителю старых дев -- для отлова и практического применения двух
старых дев тат.национальности. Тушки старых дев предлагается сдать в течение
отловного сезона". Грамотку случайно прочитала Махамоля. Перед самым
отъездом Махамоля вероломно, с применением физической силы и угрожая убить, как
собаку, -- напала на Ломова без объявления военных действий. Ломов спасся
бегством с ночевкой у Заводского Друга. В казанской командировке Ломова
обокрали милиционеры тат.национальности. Были взяты навсегда: кошелек с медными
деньгами, перочинный ножичек, шнурки от ботинок и широкое золотое обручальное
кольцо. Когда Ломов вернулся, он, возмущенный, детальным образом
описал Махамоле
процесс наглого воровства. Махамоля опять побила Ломова, приговаривая:
-- Пропил, кобелина проклятый! Пропил,
сучара! Я тебя насквозь вижу! Сучара!
-- Пропил! -- от злости огрызнулся
Ломов, клепая на себя напраслину.
Махамоля сразу успокоилась.
-- Ну, вот. Я же знаю, что ты честный!
Ты всех дружков своих честнее! Меня -- не обманешь! -- и она потащила его в
постель.
-- А про какие там тушки в бумаге было
написано?
-- Так... поручение по службе...
-- А!... -- и она сгребла его, радуясь
и пылая. Тяжело вздохнув, Ломов закатил глаза и приступил к исполнению
супружеского долга.
...Однажды я опять решил стреляться.
Мучительно ворочая пьяной башкой, я все
вспоминал рассказ Мишани о парне, который приставил ствол к подбородку, запрокинул голову и --
выстрелил. Но не рассчитал, запрокинул
голову слишком далеко, так, что напрочь
оторвало лишь нижнюю челюсть. Теперь парня лечили: говорить он не мог, питался через трубочку, а курил через
ноздрю. Ужас! Я собрал ружье в чехол,
надел под куртку патронташ и пошел стреляться в... травматологию. Мало ли что! В травматологии
меня узнали Мишанины друзья, я печально
поведал им о своем психическом состоянии и
спросил: в какой из комнат можно произвести ЭТО... Меня провели в комнату с кушеткой, и мы стали на прощанье
пить неразведенный спирт. Я тупо, как
Кол, твердил одну и ту же фразу, прощаясь с миром навсегда: "Баб ненавижу!" Пользуясь
моей невменяемостью, эти шутники-врачи
отправили меня в хирургическое отделение, оформили как больного с экстренным случаем и
прооперировали, слегка ушив грыжевое
отверстие в паху. Очнулся я в палате со стонущими мужиками, думал -- вытрезвитель, а я -- раненый. Когда понял,
что к чему, радовался пуще смерти! Пока
брюхо заживало, каждую ночь в ординаторской коньяк ел. Хирурги, мать их так! Каждый день без
передыху лопают. Кому люди жизнь
доверяют??
Когда из больницы выписывался, список
вещей сестричка протянула: "Проверьте". Читал по пунктам. Пункт
первый: "Ружье охотничье. Одна штука". А в дверях Мышка стоит.
Улыбается. Ждет. И я ей улыбаюсь. Все-таки как хорошо жить!
...Однажды Махамоля решила проучить
Ломова неизвестно за что. Взяла и наложила лапу на всю семейную кассу. А Ломов
неприхотлив, как трактор. Накупил пакетных супчиков за 15 копеек и знай себе
ложкой наяривает, хлебом -- добирает. Ясное дело: главное качество пищи -- это
ее объем. Жует себе и жует, не жалуется. Махамоля злится, что Ломову все
нипочем. Купила она две здоровенные курицы, зажарила обе в духовке, села
напротив Ломова и -- ест. Только хруст стоит! Ломов терпел, терпел, а как
желудочный сок стал к горлу подступать -- не выдержал. Пошел на кухню, сварил
внеочередной пакетный супчик. Поел. Потом ко мне пришел удивлением поделиться:
-- Невероятность! Обе курицы одна за
один присест сожрала!
У меня на плите стояла полная кастрюля
с макаронами и с соусом. Я ему дал. Он всю навернул. Извинился за аппетит. А
Мышка тут как тут:
-- Ешь! Для тебя разве чего жалко!
-- Деньжатость, однако, кончилась, --
размечтался было мой друг, надеясь перехватить у Мышки червонец-полтора. Мышка
тут же исчезла. То, что зарабатывала она, называлось "мое" -- с ее,
Мышкиной, конечно, точки зрения. То, что зарабатывал я -- называлось
"наше". Так вот: последний лимит вышел весь.
Ломову приходилось труднее: все
деньги, которые попадали к Махамоле, именовались с точки зрения Махамоли --
"мое". А деньги мы женам отдавали. Хитрили, мудрили, делали заначки,
но -- отдавали. Зачем? Может, затем, чтобы потом женщины унижали нас укором или
подачками и унижались через это сами? Чтобы, униженные, мы всегда испытывали
желание упасть еще ниже? -- Пусть все кончится! Хоть на время веселья! Хоть на
время. Пусть...
-- От нищенства пьем, -- сказал Ломов.
Мышка вновь появилась на кухне, послушала
конец разговора. Мне показалось, что у нее слезки на колесках.
-- Нате. Подавитесь. -- Мышка с
размаху жахнула на стол бутылку водки, которую я потерял без надежды на возврат
еще недели три назад.
-- Спасибо. Не хочется сегодня. -- И
мы поставили бутылку в холодильник. Ишь, ты, мать, какая она, видите ли. Ишь
ты! Мы тоже гордые! Мы тоже человеки.
Потом мы играли допоздна с Ломовым в
шахматы. Уговор был такой: если выиграю я, то Ломов Махамолю прощает, если он,
то идет ей бить морду.
... Однажды Мышка поймала большую
красивую бабочку. Долго держала ее за крылья, любовалась. Затем
медленно-медленно оторвала бабочке крылья. Я никогда не забуду сатанинской
счастливой улыбки на лице этого "естествоиспытателя" -- моей жены...
...Однажды глубокой холодной осенью,
когда колхозный картофель уже намертво вмерз в грунт, члену КПСС Карасиму
партия приказала исполнить долг -- заткнуть прореху в сельском хозяйстве.
Лично. Карасима дружно провожали всей Конторой в нелегкую даль. Купили
вскладчину раскладушку, чтобы не холодно было зимовать в дырявом деревенском
клубе, и уговорили бухгалтерию выдать партийному члену зарплату аж за два
месяца вперед. Под эту сумму мы и устроили неофициальную часть проводов.
Действовали не стационарно: то у одного полчасика посидим, то у другого...
Вечером, еще было совсем не поздно, решили погулять на прощанье по улицам
родного города. В центре Карасим неожиданно побледнел и прошептал в ужасе:
-- Ребята! Я деньги потерял...
Сначала искал по карманам сам, потом попросил
нас -- мы дружно стали выворачивать карасимовские одежные потроха. Руки при
этом Карасим держал строго вверх, как при ограблении. Боковым зрением можно
было заметить метнувшихся прочь прохожих. На асфальте валялась раскладушка.
Деньги потом нашлись. Дома, под
большим холодильником. Заначенные.
...Однажды Птиса познакомился в
ресторане с главным врачом одной больницы. А чуть позже у Птисы появилась
справка, выполненная на официальном бланке учреждения, заверенная подписью и
большой круглой печатью. В тексте сообщалось: такой-то и такой-то является
непорочным мальчиком. При помощи этого документа Птиса любил выигрывать
оригинальные споры с женщинами. Через несколько лет справка приобрела ветхий
вид, но действовала по-прежнему безотказно.
...Однажды Ломов пил на улице, днем,
из горла и в одиночку. Мимо проходила хорошо знакомая школьная учительница,
заметила. Ломов поступил потрясающе.
-- Я сделал вид, что я -- это вовсе не
я, и -- продолжил!
...Однажды Шура привел к нам на третий
этаж в Контору шпионский "магнитофончик" -- так он называл
шестилетнего сына, которого некуда было деть в тот раз.
-- Папа! Дай попить! -- пищал
"магнитофончик", который потенциально был опасен, как мамин доносчик.
-- Это взрослый квас! -- говорил папа
и делал страшные глаза. -- Нельзя! Он горький. Детям -- нельзя!
-- Хочу пить! Хочу пить! Хочу! Хочу!
Принесли из туалета холодной воды в
стакане:
-- Пей. Только тихонько. Холодная.
Мальчик припал к стакану, поглядывая
на дядей глазами родниковой ясности. Для каждого наступила пауза -- минута
безотчетного осмысления...
-- Не держи тару, -- грубовато сказал
Шура. Сын понял, протянул недопитый стакан обратно. Никто ведь не виноват, что
стакан оказался один на всех...
-- Вы вино пьете! -- сказал вдруг
мальчик. И все захохотали. И не стали больше играть в прятки. Легче стало на
душе.
-- Ну-ка, плесни кваску-то! -- сказал
Ломов.
И "магнитофончик" засмеялся
вместе со всеми.
-- Маме только не говори, --
предупредил отец.
-- Была нужда болело брюхо! --
пообещал "магнитофончик".
-- Расскажет! -- помрачнел Шура. И мы
налили ему в утешение в два раза больше "круговой" нормы. Надо же
товарища выручать: переживает за ребенка!
...Однажды Заводской Друг пригласил Мишаню
для производства криминального аборта, как говорится об этих делах на языке
юристов. Но сам Мишаня уколы делать не мог, потому что сильно поранил левую
руку и ходил забинтованный. В качестве ассистента он взял меня. По дороге
пояснил: колоть, мол, будешь через каждые пятнадцать минут, пока вся упаковка
ампул не кончится. Только шприц кипяти, а то шанкр получится!
На кухне у Заводского Друга стояла,
готовая к употреблению, богатая и разнообразная выпивка. Не слабо было и с
закуской. Пока я под руководством Мишани ставил на газ блестящую коробочку с
иглами и шприцем, мы успели приложиться. Воистину -- для смелости! Я никогда
уколов не делал.
В комнате находилась
"залетевшая" и не желавшая продолжать род человеческий подруга. Мы
были призваны помочь ей в этом.
-- Это... врачи? -- она с недоверием
поглядела на нас.
-- Успокойтесь, больная! Все будет
очень благородно, -- сказал Мишаня, помахивая перебинтованной рукой.
Чувиху мы перевернули на живот,
стянули с нее штаны и приказали не шевелиться, если хочет, чтобы все прошло без
осложнений. Чувиха замерла, выставив наружу обильную задницу.
-- Куда колоть? Покажи! -- шепотом
спросил я Мишаню.
-- В соответствующий квадрант, --
сказал Мишаня, успевший вынуть из сумки учебник и отыскавший нужную страницу с
картинкой.
Заводской Друг тоже заглянул в
учебник. На секунду отлучился и принес красный фломастер.
-- Сейчас. Не волнуйся, моя хорошая,
все будет нормально... У ребят -- практика... -- Заводской Друг скопировал
фломастером картинку-чертеж из учебника на живую чувихину задницу с точностью
мастера-копировщика.
-- Тут кружок нарисуй... сантиметров
так пять в диаметре... -- сказал Мишаня.
Заводской Друг нарисовал. Забулькали,
закипели вовсю на плите медицинские инструменты.
-- Чего вы там? -- заволновалась опять
девица.
-- Прицеливаемся, -- сказал я. Девица
успокоилась, улеглась поудобнее.
После первого укола она орала. После
последнего сыпала комплиментами:
-- Слушай! Колешь ты -- обалдеть!
Прямо призвание какое-то. -- Я слушал ее слова и гордился. Давно меня так не
хвалили.
-- Благородно! -- говорил Мишаня,
когда я смаху попадал прямо в "пятачок". Если мазал, Мишаня говорил
просто: -- Гуд.
-- Дайте выпить, гады, -- сказала
девица.
Мишаня отрезал:
-- Нельзя! Весь медицинский эффект
пропадет.
Чувиха натянула штаны и хлопнула
дверью. Даже спасибо не сказала за обслуживание.
Все равно я чувствовал себя победителем.
...Однажды Малый все-таки выпил. Я
пошел его провожать к нему домой. Родители у Малого находились на юге, и он
безбоязненно приглашал в гости. Вдруг Малый остановился посреди тротуара:
-- Слушай! А зачем я тебя позвал в
гости?! Ведь все, что ты мне можешь сказать, я знаю. И ты ведь знаешь, что я
могу тебе сказать. Зачем! Зачем мы нужны друг другу, если все про всех знают?
Непонятно!
Я обиделся и не пошел к Малому в
гости. Утром он позвонил в Контору:
-- Я не понимаю! Зачем ходить в гости,
если ничего принципиально нового не
происходит?
Я пожаловался на Малого Шуре. Шура
объяснил, что у Малого у трезвого и у пьяного
на уме и на языке одно и то же, ибо духовное не подвержено
алкоголю. Это понятно. А вот зачем мы все-таки ходим друг к другу в гости -- непонятно. И вправду
непонятно: а зачем?
...Однажды Ломов купил велосипед,
который опрометчиво разрешил взять покататься брату. Брат поехал на велосипеде
за вином и пока стоял в очереди -- велосипед украли. Ломов заявил о хищении
частной собственности в милицию. Милиция нашла пацана, который стибрил
двухколесного друга. Пацана, но не велосипед. Велик -- канул! Пацан жил с
матерью-алкоголичкой. Матери присудили выплатить за ломовский велик. В течение
года с лишним Ломов получал по почте переводы на суммы от трех до семи рублей
-- таковы были отчисления от заработков женщины... Каждый раз Ломов добавлял к
этим рублям дополнительную сумму, и тогда мы пили от негодования на людскую
скверну. В итоге украденный велосипед обошелся Ломову примерно еще в две-три
своих стоимости. Дорогое это удовольствие -- спорт!
...Однажды Карасим сказал:
-- Лева -- наше знамя!
-- Почему?
-- Потому что его носить надо!
...Однажды я спросил у друзей:
-- Вы когда супружеский
"долг" исполняете, у вас голова мыслями не разговаривает?!
Оказалось, разговаривает. Особенно у
Кола и у Ломова.
-- Чем больше разговорчивость головы,
тем больше импотенция, -- весьма точно подметил Ломов.
...Однажды мы с Птисой сидели на
балконе. Третий день сидели по случаю совпадения отпусков и по счастливой
случайности пустования моей квартиры. Пардон! -- Мышкиной и моей квартиры.
-- Твой дом -- мой дом! -- едва не
прослезившись, сказал Птиса.
Мы обнялись. Выпили.
-- А твой дом -- мой дом! -- сказал я
в ответном искреннем порыве.
-- Не-е-е-ет!!! -- Птиса погрозил мне
пальчиком, пытаясь сфокусировать непослушное зрение. -- Не-е-е-е-ет!
Жаль. Духовное у Птисы было подвержено
алкоголю.
...Однажды мы маялись без денег и
играли от нечего делать в карты. Пришел Кол, достал "десятку" и
спалил ее над спичкой.
-- Видели? Больше не увидите!
Кол презирал себя публично. Все
сидели, как оплеванные... "Десятка" -- черт с ней! Кола жалко!
Однажды! Сколько ни пиши это слово --
все равно оно само себя не исчерпает. Потому что все, что ни случается -- сто
тысяч раз уже случалось! Так что для мира, что ни случись -- все обычное дело.
А всякие там "однажды" -- может, это мы сами и есть.

Бозар
Именно бозар, а не базар. Бозар! -- с
ударением на первом слоге. Этот коллективный психологический феномен всегда
появлялся через четверть часа после начала любого застолья. То есть всегда
наступал момент, когда неистребимая тяга к высказываниям наступала у каждого
члена компании. У каждого, но -- у всех сразу! Перекрестные споры, реплики,
обрывки пойманных фраз, собственные недоконченные формулировки -- сплошная
каша! -- все это со стороны воспринималось как мощный гул общения. И уже не
важно: кто и что сказал. И не важно: зачем и
почему. Эти беседы носили характер неуправляемой непринужденности,
и связь между концом одной фразы и началом
другой не всегда можно было найти даже с
помощью ассоциаций. Бозар! Свободный и легкий,
обидчивый и умный, беспечный и корыстный... Всякий! Лишенный конкретного лидера в разговоре, лишенный
конкретности в теме, в направлении, в
авторстве идей и восклицаний. Бозар -- это отпущенное с поводка правил самоосмысление, выраженное в
звуке. Поди разберись -- кто что хотел
доказать или поведать... Не это главное. Главное -- полнейшая непрогнозируемость бозара, его
прихотливость, его абсурдная логика
свободного течения...
-- ...бесправен! А я говорю:
бесправен! Ты где-нибудь видел у нас мужика с правами? Баба -- от того, что ей
сказали, что она баба, что она теперь неприкасаема, -- она же от этого ошизела,
обнаглела то есть. Что будет, если дать бабе власть? Кранты будут! Баба у
власти -- это на сто процентов сволочь! Она же не терпит, когда поперек! Она же
уничтожать хотит! А где у бабы больше всего власти? В Кремле? Фиг! Дома! Над
мужиком куражиться ей.
-- Наличие бабскости определяет
последовательность согрешительности, вплоть до побития...
-- Понимаешь, старик! Духовное нельзя
расстрелять, нельзя выкинуть по приказу, оно вообще нем не подчиняется, именно
поэтому кажется чудом. Чудом! Я не побоюсь этого слова...
-- Ты в Кремле был? Ну и не ходи туда,
не хер там делать!
-- Кто стакан скоммуниздил? Дайте
стакан, гады...
-- У-у-утро туманное, у-у-утророро...
седое...
-- С едою. Заткнись пока.
-- Э-э-дак, э-э-ить! Я...
-- Все дело в китайской философии!
Культ личности Христа существовал две тысячи лет, остальные культы были
поменьше. Что?! Это разум?! Ни фига не разум, это половинка разума, светлая
половинка. Возлюби ближнего. Ну, возлюбил. Дальше что? Не-е-ет! У разума есть
еще темная половинка. Но это тоже культ -- культ войны, культ уничтожения. А мы
-- человеки -- посерединке. Нам на фиг никакой культ не подходит, потому что у
нас свой котел есть: жизнь называется, хаос называется...
-- Ты, китаец, стаканы давай. Не держи
тару!
`-- ...я же в партию верил, как не
знаю во что! А что получилось? Кто туда идет? Идеалисты, которых меньшинство и
которых пинают как хотят. Это раз. Карьеристы, которые хотят стать
начальниками. Это два. И -- дураки. Это те, кого уговорили. Для плана, так
сказать. А по-настоящему-то кто? А? Давай споем. Эй! Тихо!
-- Ты-ы-ы гори, гори моя лу-у-у-учина,
до-о-о-огорю с тобой и я...
-- Сегодня яйца с треском разбиваются,
и -- душу радуя, -- звенят колокола. И пролетарии всех стран соединяются вокруг
пасхального накрытого стола...
-- ...Идите вы все! Партия ваша -- та
же баба: только и делает, что на себя любуется, а скажи ей чего -- засудит на
хер!
-- Зачем, скажи, мы встречаемся? Ведь
мы же элементарно друг друга вычисляем. До точки. До пупырышка. Другое
удивительно: ничего больше не удивительно...
-- ...пришли из кабака к ней домой, я
ее раздевать, а лифчик на спине узлом завязан. Грязный и воняет. Не поверишь, я
его зубами развязывал. Во, понял!
-- Э-э-дак, э-и-ить...
-- ...у нас практика в морге была. Вот
здесь вот режешь, за трахею берешь и тащишь наружу -- "гусак"
называется. Кстати, легкие заядлого курильщика ничем не отличаются от легких горожанина,
который никогда не курил. Говно у нас, а не воздух!
-- А ты бы в Кремле пожить хотел бы? А
я хотел бы. Я бы там от закона про тунеядство спрятался...
-- Само по себе отсутствие кремлевости
ни хорошо, ни плохо. Плохо наличествование незнания детальности кремлевости...
-- О-ко-кок, о-ко-кок! Чо я маленький
не сдок?
-- ... бессмысленно жить...
-- Конечно, бессмысленно. Я вот живу
из... любопытства: какая еще пакость приключится? Очень помогает! Рекомендую...
-- ...китайцы не были психопатами. Если
уж вешаться, значит, так оно и есть. А мы же без зрителей вообще не можем!
Психопату нужны зрители, без зрителей психопат -- нормальный... Когда тянет на
подвиги, если выпил? -- Когда народ кругом! А если народа нет, спишь да и
все... Ты в темноте курить пробовал? Невкусно! Мы же глазами курим, дым охота
видеть! Пижонеж чистой воды...
-- Есть и пить -- двойной расход!
-- ...а если бы тебе автомат дали, ты
бы свою бабу расстрелять смог бы?
-- Смог бы. Сначала бы партбилет съел,
потом -- ее...
-- Съел?
-- Расстрелял!
-- ...все красят яйца в синий и
зеленый, а я их крашу только в красный цвет. И несу их гордо, как знамена, как
символ наших будущих побед...
-- Открываю компанию по
индивидуальному пошиву презервативов из старых автомобильных покрышек!..
- Кончай бозар! Надо б наливательство
сделать...
Если бы случилось невозможное, и мы
остались бы однажды на этой весьма разговорчивой стадии общности, не трезвея и
не пьянея дальше, -- то мы остались бы в своих разговорах навсегда. Потому что
бозар -- бесконечен! Он появляется из ничего и уходит в никуда. Он почти не
оставляет следов. Он есть. И его нет. Бозар! Спасибо природе: она возвращала
нас с больной головой к трезвому терпению в ремесле и рабству в духе; она же
могла спасти и иначе -- бросить на "квадратный метр" в забытьи и
безумном желании смерти. Как последнего доказательства, как последнего
избавления. От всех и вся, и всю, и все...
-- Обидно, когда вырубонистость
наступает раньше удовольствия понимательства себя через тебя... -- замысловато
говаривал один из нас. Можно поспорить, если удастся сказать короче и
культурно.
В чем феномен бозара?
В том, что на базаре свое добро
нахваливают, а в бозаре -- хают.
 Человек-цитата
Человек-цитата
Иногда на горизонте наших постоянных в
своей случайности встреч появлялся забавный экземпляр -- инженер по
образованию, юноша по натуре, увлекающийся коллекционированием записей
самодельных песен под гитару. Абсолютный трезвенник. Человек-цитата. Любое свое
желание или мысль он выражал подходящей строкой из песни. Будто поп, находил он
ответ в своем магнитофонном "священном писании". Как нормальный
человек мыслит словами и образами, так он мыслил исключительно цитатами.
Толику было под пятьдесят.
-- Люди все, как следует, спят и
обедают, -- говорил он, заходя в столовую.
-- Лучше гор могут быть только горы!
-- сообщал он, поднимаясь пешком на девятый этаж.
-- Но лучшее платье -- твоя нагота! --
бесстрастно констатировал Толик, разглядывая на стене порнографические слайды.
-- Здесь вам не равнина, тут климат
иной... -- сочувствовал он нам, пока Ломов, подобно дельфину, нырял в
разъяренном море мужиков у винного прилавка.
-- А она обиделась, ушла! -- говорил
Толик, если ему приходилось слышать, как наша развеселая гвардия заочно
костерит своих жен.
-- Гляди, подвозят! Гляди, сажают! --
искренне радовался он услышанному повествованию о вытрезвителе...
-- Ты по-человечески сказать
что-нибудь можешь? -- не выдержали чьи-то нервы.
-- Отставить разговоры! Вперед и
вверх, а там... -- говорил Толик и улыбался.
-- Знаешь, почему Толик не пьет? --
спросил однажды Шура, -- Потому что его
поработила чужая духовность. Алкоголь помог бы ему выйти из ступора...
Напоить Толика пытались, но он уходил
в глухую защиту:
-- У вина достоинства, говорят,
целебные...
Дома у Толика росли две
девочки-старшеклассницы. Говорили нормально, без папашиных вывихов.
Иногда мы шутили.
-- Толик, ты помолчать можешь?
-- Тишина на белом свете, тишина...
На работе Толик много лет общался с
электронно-вычислительной машиной. Машина печатала для Толика стихи рулонами.
Излишки машинной продукции висели в туалете. Раздражалась и жена.
-- Откуда ты такой навязался?!
-- Запиши, что я еврей! -- говорил
Толик, припоминая строки из Галича.
Вещун
Ломов определил у меня талант.
Дело было так. Я ночевал в Конторе и
потому прибыл на рабочее место как бы еще вчера. То есть очень рано. В десятом
часу объявился Ломов. Хмурый и мутный.
-- Где бы пивости взять? -- сказал он.
Не задумываясь ни на секунду, я
брякнул:
-- В Летнем саду.
Ломов исчез, но вскоре вернулся с
банкой пива в портфеле. Это было более чем невероятно! Пиво в городе
продавалось редчайшим образом.
На другое утро Ломов уже требовательно
спросил:
-- Где?
-- В "пентагоне", -- указал
я на столовую при рабочем общежитии одного из заводов, сам искренне удивляясь
своей уверенности "ясновидящего". Ни черта я, конечно, не
"видел"! Просто башка болела, а "выходить на тропу" было
лень... Я как бы чуял: где?
Ломов вернулся.
-- Точно! -- и с триумфом открыл
портфель.
Но со временем выяснилась одна
неприятная деталь таланта: внутренний "пивной компас" действовал
только утром и только в том случае, если
талантоноситель сам едва дышал от вчерашнего. Поэтому о верности
будущего предсказания надлежало позаботиться накануне...
Прорицания всегда совершались в
сидячем положении. Еще бы лучше -- в лежачем.
-- О чем вещует твоя замечательная
попа? -- вопрошал Ломов.
И я отвечал. Собственно, не в ответе
даже был смысл, а в направлении поиска. Потому что если сравнивать два весомых
вопроса -- "Что делать?" и "Куда бежать?", -- то последний
запросто перетянет. Потому что "что
делать" -- как-нибудь разберемся, а вот "куда бежать" -- это принципиально.
Впрочем, каждый обладал какой-нибудь
не совсем обычной способностью. Мишаня, например, мог спать, не замерзая, при
любом морозе; Ломов запросто открывал зубами "запечатанность":
бутылки, банки, даже консервы; Малый научился материться, не повторяясь, в
течение двадцати минут... Лучший феномен был у Птисы. Все нормальные люди, когда
вырубались от выпитого, ложились спать -- Птиса читал. Причем он не помнил
обычно, где читал и что было вокруг. Мог страниц семьсот-девятьсот за ночь
запомнить. Очень радовался, трезвея: вот, опять обогатился духовно!
Возможно, мы напоминали семерых
братьев из китайской сказки: каждый брат умел делать лучше других что-нибудь
одно.
"Абалу"
Я бы дал Нобелевскую премию тому, кто
изобрел это яблочное пойло. За смелость. Могла умереть вся нация! Разом, как по
мановению волшебства, прилавки магазинов вдруг заполнили всевозможные
поллитровые варианты одного и того же произведения с названием
"Абалу" -- яблочного сухого вина, от которого в животе начиналось
немедленное жжение и резь, а "догоняло" оно как брага: в самый
распоследний момент. Но! -- "Абалу" продавали вплоть до закрытия
магазинов, и это было великим благом. Продавали в "Кондитерских", в
"Гастрономах", в "Овощных", даже в "Хлебе", не
говоря уж о "Соках-водах"... Если в стакан с абалу-жидкостью,
прозрачно-ядовито-зелененькой, бросали щепоть пищевой соды, то можно было
видеть, как стакан шипел и пенился, а в осадок выпадали обильные черные хлопья.
-- Велика заботливость о здоровье
советского народа, -- задумчиво говорил Ломов, наблюдая химические превращения
в стакане.
"Абалу" выпускали узбекские
умельцы сельских угодий, "Абалу" -- такие этикетки наклеивали на
бутылки колхозы и совхозы Крыма, Ставропольского края, солнечной Молдавии и
дождливой Прибалтики; все вдруг увлеклись массовым выпуском дешевой алкогольной
субстанции.
По этому вопросу возникли некоторые
коллективные афоризмы, занесенные в скрижали. Шура нашел где-то фотографию
скульптуры "Булыжник -- оружие пролетариата" и нарисовал вместо
булыжника бутылку, тут же стаканчик, и написал: "Абалу" -- оружие
пролетариата". Морда у мужика была что надо!
На титульном листе блокнота с
фотографией я написал крупно:
"Абалуяда".
Шура продолжил: "Записки молодого
ябловода".
Потом появились другие записи:
"Как абалукнется, так и
отикнется",
"Каков стол, таков и стул".
Потом пошли стихи:
"Расцветут весной цветочки,
От сивухи лопнут почки.
Цветочки расцветают --
Почки отлетают!"
Однажды мы пролили "грязь"
-- так в обиходе именовали "сухешник" отечественного производства --
на подоконник. Краска облупилась, подоконник изменил цвет. Каждый из нас мог
выпить за вечер этой "грязи" литра по два-три... Тогда утром я вещал
стропроцентно.

Ню
Мы знали, что Шура уже несколько дней
рисует на мансарде голую бабу -- ню по-научному. Ню -- это обнаженная натура на
языке художников. А на самом деле -- просто голая баба. Баб мы все очень не
любили, потому что от баб происходило зло, поддерживаемое многими
государственными законодательными актами о семье и браке.Шура их тоже не любил,
но у него была особая профессия.
-- Зар-раза! Меш-шок! Кайфун долбанутый!
-- эти выкрики влетали в длинный коридор, куда выходили двери нескольких
мансард. Мы опешили было, но тут же поспешили на цыпочках к источнику шума.
По мансарде скакал, пытаясь увернуться
от разъяренной голой женщины, вполне одетый художник. Шура то есть. Баба была
пьяна, Шура был, судя по прыти и убедительной скорости речи, -- трезв.
Мы ввалились в комнату. Женщина
остановила свой бег и прекратила преследование. Она замерла и негодующе
показала на Шуру прыгающим от нервного возбуждения пальцем. Она призывала нас в
свидетели и судьи.
-- Фуфло! -- сказала она. Потом
кое-как оделась, пнула по картонному ящику, повторила: Фуфло! -- и вышла,
наконец.
Шура не учел психологию. Ему
понравилась незнакомая личность женского рода и он уговорил ее побыть
натурщицей согласно почасовым госрасценкам.
Первый день она сидела смущаясь.
Второй прошел в приятных разговорах за
работой.
На третий она начала капризничать по
непонятным причинам.
На четвертый изволила выпить в
одиночку. А как выпила -- заорала:
-- Долго ты еще мазней своей будешь
заниматься? Я тебе, что? Не живая?! -- И пошло-поехало... Она, видать, решила
про себя, что ее тут будут соблазнять художественным образом. И вот: время
идет, а ничего нет... Получилось бешенство.
Женщины не прощают, если то, что они
напридумывали, -- не такое в действительности.
Вторая стадия
Всех просветил Мишаня.
Первая стадия алкоголизма -- это
утрата рвотного рефлекса. Это мы, слава богу, проехали.
Третья стадия -- это когда выпил
"сотку", а забалдел на полную катушку. Очень экономно! Но мы до этого
еще не дотянули.
-- У вас, уважаемые, вторая стадия! --
объявил Мишаня. -- Точнее, ее середина, которая характеризуется высокой
толерантностью...
-- Чем? -- переспросил Ломов.
-- Толерантностью! То есть высокой
" нормой" выпитого: пару пузырей водки кидаешь и не косеешь. Понятно?
-- Ну.
Потом Ломов вдруг изрек не торопясь:
-- Я тут как бы примерную
вычислительность произвел. Получается, что абсолютное большинство человечества
живет во второй стадии?
-- Благородно! -- одобрил Мишаня
ломовскую догадливость. И мы вдруг почувствовали себя в этой жизни чуточку
увереннее, потому что нас таких на земле -- абсолютное большинство. Потому что
"вторая стадия" очень продолжительна и "не сопровождается
процессами резкой деградации, не влечет утраты работоспособности, не..."
Чего-то там еще -- "не". Ладно. Не важно. Хороший Мишаня человек.
Я люблю тебя, шизнь!
Утро вечера муденее.
Рожденный пить жевать не может.
Играй, гормон, наяривай!
Плоха та вошь, которая не мечтает
стать генералом
Влюбленные тpусов не наблюдают.
Это особая часть повествования. Все мы
без исключения увлекались, каждый в меру своих способностей, -- словоблудием.
Блудословием то есть. И часто получался неожиданный эффект: старые, заношенные
в повседневной речи слова, вывернутые наизнанку, шиворот-навыворот, начинали
играть незнакомыми, свежими гранями. И это было весело само по себе. Будто
потерли старую медную лампу Аладдина и -- блеснула первозданная медь, и
объявился джин... Словоблудием грешили не только мы на своем малозаметном
уровне, грешили им и солидные газеты, и солидные издания. Будто все терли и
терли старую лампу Аладдина -- жизнь -- будто все звали всемогущего джина,
надеялись на отблеск новизны...
-- Рот в рот! -- поднимали мы руку со
сжатым кулаком в миг приветствия или прощания.
-- Рот в рот! -- отвечал
приветствуемый или прощающийся.
Ценилась стойкость к цинизму.
-- План эвакуации на случай
менструации, -- читал кто-нибудь на свой лад пожарную табличку на стене
присутственного места.
-- Дача взячки и бpача дачки карается
по закону, -- слышалось дополнительное сообщение.
Когда меня прооперировали Мишины
друзья-хирурги, дав вместо вечного блаженства на небесах, куда я собрался было
через пункт травматологии, -- просто больничную койку в общей палате, то первым
на мое несостоявшееся самоисчезновение отреагировал, чувствительный к чужим
потребностям, Ломов. Он вызвал меня к телефону и начал задавать вопросы на
тарабарском диалекте. Я отвечал. Мы прекрасно понимали друг друга.
-- Не принести ли тебе книжицев для
почитательства. Можем и вместе почитать, если есть где... Тебя двухтомник
Белова устроит?
-- Много.
-- Ну, однотомник можно...
-- Полегче бы чего. Мы тут и так по
ночам с хирургами читаем...
-- Писателя Краснова?
-- Нет. Конецкого, в основном.
-- Солидные ребята! Своя
библиотечность или приносная?
-- Приносная.
-- Тогда приятно: одно удовольствие
почитать!
-- Принеси мне десятитомник Суслова,
-- заказал я Ломову.
Ломов перевыполнил план заказа в два
раза. Он принес 20 томов Суслова. То есть двадцать бутылок пива, которое мы и
дернули сначала в больничном подвальчике, а потом в пустом больничном
коридорчике. Белов -- это водка, писатель Краснов -- "бормотуха", Конецкий
-- коньяк. Число названных томов
соответствовало числу планируемых
бутылок. Примитив. А ведь как тешил душу! Вообще, в той нашей среде стойко жила легенда о всеведении ЧК, о подслушивании
телефонных разговоров, о близких
застенках за крамолу и антисоветчину.
С Птисой, к примеру, говорить было
одно удовольствие. Высший класс! Мэтр!
Наберешь лишь номер, а там:
-- Э-э?
-- Ну.
-- Эть!
-- На тропу. Есть. Так же. Там же...
-- Э-ить! Зар-раза!
Все. Разговор состоялся. Мы прекрасно
поняли друг друга: денег можно не занимать, мы уже все купили, зовем его туда,
где "гудели" вчера, то есть опять к Ломову, но не раньше половины
восьмого. В лепешку расшибется, а -- будет. Мы Птису хорошо знали.
На семейных торжествах мы перевирали
строки из песен:
"Я люблю тебя, шизнь!.."
"Где ты моя, черножопая,
где?.."
"Член ты мой, опухший..."
Кстати! Был у нас мастер и по
переделке пословиц. Мог, например, "вылепить горбушку" типа:
"Дед бил-бил, не разбил. Баба
била-била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и --
опухло..."
Или:
"Хрен редьки -- не толще!.."
"Вылепить горбушку" -- это
тоже сленг, то есть удивить окружающих неожиданностью высказывания.
Я очень любил повторять по поводу и
без повода:
"Да-а-а, здравствует
Коммунистическая Партия Советского Союза..." Одна запятая, а как меняет
смысл, черт побери! Я все первомайские и все ноябрьские призывы читал только
так! Очень утешает. Рекомендую.
Был у нас знакомый, Валерий
Капитонович. Стал -- Холерий Купидонович.
Был знакомый старший преподаватель
кафедры экономики, стал -- старший преподдаватель.
В свежих компаниях Мишаня неизменно
представлялся с поклоном:
-- Здравствуйте! Мишаня.
Врач-педератор. Домосек и гомосед.
Абортная девица прислала с юга письмо
Заводскому Другу, в котором были такие слова, идущие от самого не знаю чего:
"Я замучала себя сама саму тобой без тебя много потом раз..." Ну, что
ж, тоже -- грамотно.
Все мы были немножко ломовыми:
перевирали жизнь на свой особый лад, собственно, защищаясь от этой самой жизни,
собственно, желая украсить ее всепроникающую серость... И она одаривала нас
коротким смешком в узкой компании ценителей, коротким озорным взглядом
случайных ценительниц... Собственно, выработка какого-то собственного сленга --
это, наверное, что-то от нигилизма, от желания иметь нечто независимое,
именуемое во веки веков Свободой. Был и такой случай. Партийный Карасим после
очередных похорон, испытывая сильнейший порыв педагогического недержания,
унюхал за Малым специфический запашок.
-- ...твою мать! -- сказал Карасим в
показательной несдержанности.
-- Здравствуй, папа, -- сказал Малый,
глядя Карасиму прямо в глаза.
Карасим запутался, прямолинейность его
мышления не выносила неожиданных поворотов.
Иногда разыгрывались мини-спектакли,
картиночки-сценки,
импровизации-тесты.
-- Скажите! Что, все, действительно,
так плохо? -- спрашивал один.
-- Что вы! Что вы! Конечно, нет. На
самом деле все гораздо хуже... -- отвечал другой.
Прямолинейнее всех был Заводской Друг.
Если кого-то рвало над унитазом, он обязательно с большим чувством произносил
фразу:
-- Вот у бабушки моей перед кончиной
так же было...
-- Неплохо бы покурятничать! --
говорил Ломов, когда хотел курить.
Тут надо соображать. Кто знает, может,
вот так же, в одном изолированном племени рождался когда-то свой язык, понятный
собственной общине и непостижимый для врага? Кто знает! Воздух над землей един.
Един свет солнца. Едина твердь. И звук, в принципе, тоже един. Но как различны
модуляции! Главное -- зашифровать информацию. Чтоб поняли только свои:
-- Обком, дева плачет...
-- Горком! -- Слезы льет...
В нашем племени после одного-двух
стаканов можно было смело отбрасывать традиционную грамоту и переходить на
слова-ключи: сказал слово, а всем понятно куда больше. Как в анекдоте про
анекдоты: психи в дурдоме, чтобы не рассказывать по десять раз одни и те же
истории, пронумеровали их. Очень экономно: называешь номер и -- сразу можно
смеяться. Так и у нас, похоже: жизнь словно специально водила по одним кругам
семейного и морально-общественного ада -- ходишь, ходишь, ходишь, ходишь...
пока не сделается смешно, пока не обнаружишь рядом таких же ходоков. А как
обнаружишь -- говорить захочется. Раз поговоришь, два поговоришь, три... Потом
пронумеруешь разговоры в соответствии с "кругами" и -- опять экономия
-- хохочи себе на здоровье.
Замкнутые круги. Замкнутый смех.
Замкнутый язык. Замкнутая жизнь. Одно утешает: каждое "замыкание" --
неповторимо! То есть смешно... Ситуация номер такой-то...
-- Как возьмешь "портвейну"
-- береги его! Он ведь с нашим знаменем цвету одного! -- шутил Кол, вспоминая
пионерские речевки.
-- Кто это? -- спрашивали мы Кола.
-- Омар Хайям.
-- Я знаю секрет попительства! --
говорил Ломов. -- Чем дальше влез, тем чаще
в рот...
А еще Мишаня предлагал открыть
кооперативную пирожковую с эпатирующим названием "Морг". Пирожковую
при морге.
-- А что? Клетчатка при похоронах
пропадает зря. В масштабах страны мы бы
обеспечили дешевым мясом миллионы граждан. Я, как медик, вам говорю... -- убеждал нас Мишаня. И -- точно!
Кушать жмура нам представлялось очень смешным. И впрямь: жизнь иногда казалась
бесполезной, особенно трезвая, так пусть хоть от смерти польза будет
человечеству. Мы ведь не хотели приносить пользу на своем рабочем месте или
супружеском ложе. Нет! Мы хотели приносить пользу -- человечеству. Не меньше!
Донос
У нас с Мышкой родился ребенок.
Девочка. Мышка находилась в роддоме, а дома шло безудержное -- по поводу --
веселье. Первым о том, что родился новый родственник, узнал не я. Мы выходили
звонить к автомату по очереди: я и Птиса. Потом, уже ночью, вышли вместе. Птиса
прислонил меня к стене, а сам опять умудрился набрать номер.
-- Э-э-дак, и-ить! -- фамилию называть
было уже не обязательно, с той стороны нас уже узнавали по голосу. -- Зар-раза!
-- радостно осклабился Птиса в
телефонной будке. Бросил трубку, вывалился ко мне:
-- Бракодел! Девка! Зар-раза! -- Птиса
удовлетворенно радовался, мол, не зря гужевали, не зря здоровье гробили... --
Девка! Э-и-ть!
-- Самочка, -- поправил я его.
И -- начались кошмары. Ребенок орал
день и ночь. Мышка лютовала. Ястребом вилась вокруг нашего дома теща. Сначала я
спасался от непрекращающихся окриков и притязаний в туалете. Но Мышка раскусила
мой маневр и сняла с двери защелку. Теперь, если я шел по нужде, Мышка
обязательно заглядывала с инспекцией: делом занят или нет, какаю или симулирую?
Ни в коем случае не должен сидеть так просто: должен пользу приносить!
У меня сложилось устойчивое
впечатление, что стоит только выглянуть с балкона, и я увижу, как толстая теща
семенит от трамвайной остановки в нашу сторону, держа в обеих руках дары в
авоськах.
-- Вон яблонька идет, -- сообщил я
однажды.
-- Какая яблонька? -- не поняла жена.
Я сделал поясняющий жест, поочередно
тыча пальцем в направлениях -- приближающейся тещи, Мышки и существа в детской
кроватке:
-- Яблонька, яблочко и -- семечко...
Мышка с воем кинулась выцарапывать мне
глаза. Так бабушка и застала нас, в
конфронтации.
Потолок на кухне белел отличным по
тону пятном в том месте, где когда-то вывалился кусок из-под висельного
плафонного крюка... Вновь портить отремонтированную поверхность потолка было
жалко, хотя крюк я приделал на совесть...
Мне было позволено оборудовать
собственную территорию в торце темной комнаты-кладовой. Нагромождение
чемоданов, старых и не очень старых одежд на вешалках, какие-то коробки, узлы,
тюки, санки, лыжи -- мало смущали, потому что, миновав все это, протиснувшись
вглубь, можно было, скорчившись, приземлиться за малюсенькой дощечкой,
заменявшей стол. Над столом я провел свет, повесил лампочку с рефлектором;
получилось здорово! Было, правда, душновато, но что за пустяки!
И вот в ночи, когда мать и дочь,
уморенные друг другом, забывались на время, я прокрадывался в нафталинную нору
и, оставшись, наконец, наедине с мыслями и прочим беспокойством внутреннего
порядка, -- садился думать. Было сладко себя жалеть. Но это прошло. Потом я
начал запоем читать книги из огромной библиотеки Птисы. Книги подбирал для меня
Птиса самолично -- он формировал у меня, дурака, вкус к литературе. Когда
"вкус" сформировался, я взял ручку и, не поленившись, записал тайный
репортаж из самого пекла семейного жития. Показания очевидца, так сказать.
Донос, если хотите. Но -- без выдумки: слаба фантазия перед дикой логикой
лучшей половины человечества!..
Вот, пожалуйста:
"Мышка сказала:
-- Я выдавлю тебя из своего дома, как
гной из своего чирья!
Она живет в моей квартире. Ее -- Мышку
-- со всех сторон защищает Закон. Меня защищает смех моих друзей и водка.
-- Мой пол, сволочь! Делай уборку!
-- Давай вместе...
-- Ничего, не надорвешься, один
сделаешь.
-- Милая, я ведь тоже сегодня работал,
тоже устал...
-- Не хочешь? -- Тогда вали из этого
дома!
Чуть позже:
-- Ну, поцелуй меня! Стой, не изворачивайся.
Дурачок!
Невозможно спокойно пройти мимо Мышки:
неприятные, конвульсивные ласки,
ненатуральный смех. Видимо, у нее сексуальная озабоченность, и она предпринимает организационные попытки. Я
настороже: будет кризис. Неожиданное,
никак не обоснованное неумеренное веселье -- тревожное предзнаменование.
Ложусь спать. Говорю: "Спокойной
ночи!"
-- Больше ничего не хочешь сказать?
-- Приятного сна.
Она, чувствую, заводится. Спим мы
раздельно, на двух кроватях. Подошла... Плюнула в затылок. На сегодня, кажется,
все.
Омерзительно! Я презираю себя. Черт, к
каким уродливым формам человеческих взаимоотношений может привести сочетание
альтруизма и воинствующего эгоизма. Господи, откуда что берется? И куда
исчезает? Откуда?..
-- Уметь терпеть -- это замечательное
достоинство, -- сказал мне как-то тесть. Его очень позабавило одно очень
поучительное воспоминание из собственной биографии, рассказанное мне для
намотки на ус. Однажды он, самостоятельно, без санкции жены купил пару валенок.
Принес домой. Жену так разозлило своеволие мужа, посягнувшего на привилегию
расходования денежных средств, что она столкнула мужа по лестнице вниз со
второго этажа вместе с валенками. Валенки несчастный понес туда, где брал,
выклянчил деньги обратно... Рассказывая о своем раболепном унижении, он
нескрываемо гордился своим послушанием перед любимой женщиной. Он ее и вправду
любил. Гордился тем, что его дурака, чуть не убила на той лестнице... Он
научился находить удовлетворение и целесообразность своей жизни в безоговорочном
подчинении во имя любви. Увы, не мой вариант. Мышка, как и ее мать, ждут от
меня полной личной безынициативности и почти религиозного
беспрекословия..."
Позже эти записки я прочитал Ломову.
Ломов одобрил. Сказал, что в них есть замечательность одинаковости, то есть
моменты, очень сходные с проблемами его, ломовского, быта. У него, правда, сбор
улик против "женского рода нечеловеческого" производился с
применением технических средств -- портативного магнитофона, который Ломов
виртуозно умудрялся включать и выключать, не привлекая острой подозрительности
орущей и вечно пьяной Махамоли. Показывать "улики" друг другу было
очень смешно. Мы искренне смеялись над своими
судьбами.

Эпидемия правды
В дверь нашей комнатки-убежища на
третьем этаже Конторы тихо и аккуратно постучали: тук-тук-тук, тук-тук. Сигнал
был условный, только для своих, мы открыли. Вошел Карасим.
-- Все поллитрбюро в сборе, -- сказал
он, скользнув взглядом по крошкам на столе.
-- Что вы, что вы! Только вас и ждали!
Партполлитрработника! -- сказал Шура.
-- А не продолжить ли нам
поллитрбеседу? -- спросил Ломов.
-- Извините, может, помешал? -- начал
было заигрывать Карасим.
-- Иди ты со своим извинятельством! --
сказал Ломов и поволок из-под стола на свет божий позвякивающий портфель.
Мы негромко обменялись радостными
репликами.
-- Йог -- наша мать!
-- Нам батерфляй на водной глади
продемонстрировали... дяди!
-- От автобусной остановки до моего
подъезда ровно двести двадцать шесть локтей, -- неожиданно сообщил Карасим.
Ломов заинтересовался:
-- Измерятельство в локтях, надо
полагать, удобнее измерятельства в метрах?
-- Конечно, -- дал разъяснения Шура,
-- особенно когда идешь на бровях!
-- Я вчера после партийного собрания
так расстроился... Черт! Работа у нас нервная! -- Мы согласно покивали. -- Я
вчера своей бабе всю правду сказал!
-- Карасим! Ты стал мужчиной! -- обнял
его Шура. -- А что сказал-то?
-- Что я ей... что... ну, что я ей...
изменил!
-- О!!! У-у-у! Поздравляем!!!
-- Помните, я ездил в турпоездку?
-- Ну.
-- Вот там.
-- Ну. Ну! Как дело-то было?
-- Я... я... я ее поцеловал!
-- Ну. Понятно. Дальше!
-- Все...
-- Как все? А соитие?
-- Зачем? Я же и так... Это же
неверность...
-- Тьфу! Хрен-кладенец! Косая сажень в
трусах!..
-- Вы не понимаете! Это -- так сильно!
-- сказал Карасим и опечалился.
Я сказал:
-- Карасим прав. Правда неуловима. Вы
только подумайте: если говорить одну только голую правду всегда и про все, вас
с тысячекратным упорством будут ловить на лжи. Абсолютно честный человек
абсолютно невыносим! Для нормального существования ему требуется абсолютное
общество. Давайте говорить правду! -- Это вызов нашей идиотской жизни! Больше
мы все равно сделать ничего не сможем.
-- Дай я тебя поцелую! -- сказал Шура.
-- Ты идешь по правильному пути. Ты растешь духовно, ищешь достойного
противника. Этот противник -- ложь! А ложь -- вся наша жизнь!
Выпили. Закурили.
-- А что бабец? -- вернул Ломов нить
разговора.
-- Плакала, -- почти прошептал
Карасим. -- И я -- плакал...
-- Я, бля, бляхой не был, но ты, бля,
бляхой будешь... Ля-ля-ля, три рубля... -- задумался о чем-то о своем
долговязый Ломов.
Сидели тихо. Очень интеллектуально. На
высокой доверительной ноте. Долго
бы сидели, если бы дверь вдруг не прогнулась и не раздался бы оглушительный
ба-бах ногой с той стороны:
-- Выходи, пидорасы! Выходи, сволочи!
Здесь вы! Ну!!!
-- Махамоля! -- еле слышно ахнул Шура,
замерев со стаканом в руке. Как говорится, где стояли, там и сели: выследила!
-- Выходи, алкаши проклятые! Всех
арестую! Сейчас ментов вызову! -- уверенно орала Махамоля и, судя по
уверенности ора, была, к сожалению, трезвее некуда. Мы в испуге глянули на
Ломова.
-- Вызовет, -- сказал он неслышно,
одними губами и приложил к ним палец. -- Т-с-с!
Мы надеялись, что Махамоля спустит
пары и уйдет. Куда там!
-- Выходи, пидоры недоношенные! Ломов?
Эй, Ломов! Ну, вернешься, сука! Дам я тебе... Хрен я тебе дам! Иди ищи, где
хочешь...
Ломов быстро открыл и закрыл дверь,
потому что по коридорам всех этажей Конторы гуляло мощное непрекращающееся эхо.
Из двух зол приходилось выбирать личное, а не служебное. В приоткрытую на миг
дверь впала Махамоля, сбитая с толку неожиданно быстрой победой.
-- А-а-а! Суки! И ты,
секретарь-пердетарь, здесь! Ничего, на тебя управу раньше других найдем: это,
значит, ты моего мужа спаиваешь?
Карасим от несправедливости и
возмущения аж задохнулся: капни Махамоля куда надо -- и не отмоешься потом.
-- Извините. Но прошу не оскорблять!
-- он от волнения перешел на вы.
-- Я тебе пооскорбляю! Я тебе клюв-то
повыдеру! -- кричала Махамоля, размахивая дамской сумочкой на ремне, как
пращой. Со второго или третьего замаха она задела по Шуриной руке с налитым
стаканом. Стакан вырвался и упал на пол, не разбившись. "Бормотуха"
разбрызгалась и разлилась, тут же превратившись в облако запаха. -- Я тебе...
Договорить Махамоля не успела. Ударом
правой снизу в челюсть Ломов оборвал поток ругани. Махамоля упала, оборвав
телефонный провод, трахнулась в падении затылком о стенку и застыла
полулежа-полусидя, не закрывая остановившихся остекленевших вдруг глаз. Крови
видно не было. Только ноги Махамоли беспомощно разъехались на полу и из-под
задранной юбки выползли наружу наглые сиреневые рейтузы с начесом...
-- Что позволено Юпитеру, не позволено
козлу!-- сказал Ломов, ожидающий возвращения к жизни своей законной половины.
-- Негодяй! -- завизжал Карасим и
полез на Ломова драться. Но драки не получилось, потому что Шура сгреб Карасима
в охапку и не отпускал от себя.
-- Вот тебе самая что ни на есть
правда, -- сказал Ломов тоном практикующего репетитора. Махамоля не шевелилась.
Ломов спокойно растирал кулак.
-- Она умерла! -- затрясся Карасим в
истерике.
-- Вперед ты сдохнешь десять раз
подряд, -- успокоил его Ломов.
Я присел на корточки и заботливо щупал
пульс Махамоли. Сердце ее билось ровно и крепко, казалось, что жизнь организма
происходит независимо от обстоятельств. Ломов налил "краснухи" чуть
больше полстакана, сунул мне небрежно:
-- На-ко. Сделай ей подносительство.
Едва я приблизил стакан к носу
Махамоли, она застонала, приоткрыла глаза и выпила.
-- Еще хочу! -- Налили еще.
Уставившись в окно, Махамоля выкурила
три сигареты подряд. Мы, как дураки, молчали у нее за спиной, стараясь даже не
переглядываться. Ждали исхода. В портфеле оставался солидный запас.
Что-то щелкнуло. Послышался
механический вибрирующий гулковатый крик: " А-а-а! Суки! И ты,
секретарь-пердетарь..." Ломов выключил портативный магнитофон, на котором
он, оказывается, только что сделал запись-компромат. Махамоля от неожиданности
чуть горячий окурок не проглотила.
-- Ты!.. -- захрипела она,
по-обезьяньи вытянув губы вперед трубочкой.
-- Я, я... -- спокойно подтвердил
Ломов. -- Во-первых, ты ответишь за оскорбление личности партийного уважаемого
человека, во-вторых, за дебошность в пьяном виде, в -- третьих, я покажу эту
пленку в психиатрической клинике. Будет тебе лечительство!
Махамоля трухнула, это было заметно по
ее наивному беспокойству: она взглядами призывала нас в свидетели. Мы
насупились и молчали.
-- Писательство семейных скандалов
законом не запрещено, а как улика -- это замечательно. Мне ваша бабскость вот
уже где! Я ведь не скрываю: да, пользуюсь магнитофонностью. Да, если захочу,
справлю половую нужду без участия любовности души. Я ведь ничего не скрываю --
сплошное говорительство правды! Пожалуйста! Пользуйся! Вот он я -- весь твой! А
если меня шпионством и недоверительностью изводить -- хер тебе тогда, а не
Ломов! Вот посмотри на ребят: не дадут соврательства сделать.
Шура налил Махамоле полный стакан:
-- На!
Ломов неодобрительно зыркнул, но
стерпел. Со второго-третьего стакана жена могла избрать месть как основной
способ жизни и тогда "бой быков" -- семейный бокс -- неизбежен. Ломов
стеснялся зрителей, то есть нас.
Карасим залез под стол и скручивал
телефонные проводки. Слышно было, как он судорожно вздыхал от избытка
впечатлений: грубая проза бесцеремонной жизни опять ранила его идеалистическое
зрение.

-- Ты меня любишь? -- спросила
Махамоля, обращаясь ко мне.
-- Да. Но сношаться не буду! -- сказал
я, поморщившись и довольно грубо.
-- А ты? -- обратилась она к Шуре.
-- О чем речь, мать! -- Он обнял ее и
хотел поцеловать в губы, но Ломов глухо по-собачьи заворчал. Шура уловил и
просто дружески пожмякал Махамолю.
Карасим сидел по столом и не вылезал,
похоже, специально.
-- А ты, кобелино-дерматино? --
Махамоля уперла руки в боки и встала перед
Ломовым.
-- Я к тебе хорошо отношусь, --
ответил он с достоинством.
Махамоля удовлетворилась. Кивнула на
мужа:
-- Он никогда мне не говорит
"люблю". А в первый раз вообще спросил: "Приятственно ли
тебе?" Ха-ха! С распростертыми ногами его всегда, сволоча, встречала! И
ведь он, закусив мудила, ко мне мчался! На крыльях, сучара, летел! Ну, скажи,
ты любишь меня, а?
-- Я к тебе хорошо отношусь, -- уже
сухо и официально ответил допрашиваемый.
-- Вот, всегда так... -- изобразила
Махамоля попытку безудержного плача, но
отвлеклась, обнаружив под столом Карасима, говорящего по телефону.
-- Да, я мерзавец... да, понимаю,
да... мы тут... -- и он перечислил присутствующих, -- да... я не смог
отказаться... ну, что ты, ты же знаешь, что для меня значишь...
Карасим почти на
"автопилоте" дозвонился до дома и теперь пытался объясниться жене в
любви, в деталях рассказывая заплетающимся языком увиденные здесь ужасы.
Похоже, на том конце провода искреннего мужского покаяния не оценили и
негодовали смертно.
Махамоля нырнула под
крышку-столешницу, вырвала у бедного Карасима трубку и радостно заорала:
-- Все в порядке! Милая! Все в
порядке! Блядей нету! Э-эх! Гулять будем! Мандеть будем!..
Второй сокрушительный удар Ломова
свалил Махамолю, считай, на полчаса. Из-под стола на локтях выполз Карасим.
Преодолев расстояние локтей в десять партийный лидер умиротворенно затих. Питие
продолжили втроем на осколках разбитого вдребезги телефона. Говорили тихо,
полушепотом, заботливо поглядывая на спящих: не разбудить бы! Ломов скатал
пиджак и подложил Махамоле под голову. Погладил жену по волосам, вздохнул, как мать
над спящим неслухом:
-- Спи, дура.
-- Неужели любишь? -- спрашивали мы.
-- Ну, любительством это не назовешь,
но и нелюбительством тоже назвать трудно, -- философски рассуждал Ломов. -- Я
ведь как думаю: ну, вот брошу я ее... Я-то не пропаду со своей ломовостью... А
она? Вдруг я ее через месяц поломойкой в бане увижу? Повешусь ведь!
-- Я эпос изучал, -- сказал Шура, -- в
университете. "Мертвой" водой побрызгаешь на разрубленные части --
срастаются, потом "живой" брызгать надо -- оживут... Очень важно!
Чтобы срослось -- надо "мертвой" брызгать!
-- Побрызгай-ка мне огненной воды, --
попросил Ломов, подставляя блуждающий стакан. -- Спососибо!..
Начала было очухиваться Махамоля, но
Ломов, бережно поддерживая голову женщины, влил дополнительную порцию. Картина
была трогательной. Рядом, вытянувшись вдоль плинтуса, сопел ежиком Карасим.
-- Завтра права качать будем. Кач
будем делать! -- И глаз Ломова недобро сверкнул отблеском зажженной спички.
Ночью за Карасимом приезжала жена,
надавала ему пощечин и вынесла на руках к такси у подъезда Конторы... Может,
так, а может, и нет. Трудно сказать в точности. Не утверждаю. Боюсь ошибиться,
а это мне
совсем ни к чему.

Инструкция
Сначала, разумеется, о "маленьких
хитростях". Особого внимания и уважения заслуживает искусство закуски.
Точнее, экстренный или походно-спонтанный вариант. Например. Удивительной
закусочной "емкостью" обладает обыкновенный плавленный сырок за
пятнадцать копеек: брикетик в несколько десятков граммов способен удовлетворить
желудочные запросы всех членов стихийной алкогольной команды. Малая крошка
сырной массы, тщательно и длительно размазываемая во рту, способна творить
чудеса. Жидкого -- максимум, твердого -- минимум! Предельная экономия! Но --
этого вполне достаточно, чтоб не вырвало. То есть -- норма.
В стационарных условиях удобно
сочетать градусную жидкость с безградусной болтушкой из старого варенья на
сырой воде. Это не запивон, это -- еда. Зачастую, единственная на несколько
дней...
Специалисты типа "луженая
глотка" могут обходиться известным из анекдотов "занюхиванием".
Занюхивание -- это тоже род еды, питания на непостижимо утонченном
энергетическом уровне: высший пилотаж! Можно также обойтись зажевыванием
спички.
Замечено: интеллигенты расточительны
на закуску в условиях кустов или подъездов, а в домашних условиях, наоборот,
едят мало. Интеллигенция в выпивке ищет осмысленное страдание, она не обладает
всепогодным настроением.
Где пить? Этот вопрос встает одинаково
остро и перед матерым специалистом, и перед неопытным новичком. Стратегическое
чутье и динамичная тактическая инициатива вырабатываются только в результате
многотрудного личного опыта. Надо хорошо помнить: на твоих ошибках учатся
милиционеры!
Вот тактика простора. Летом лучше
выйти на самую середину какого-либо городского пустыря, откуда удобен дальний
круговой обзор местности. Но эта тактика требует постоянной бдительности и
безынерционной маневренности. Пить приходится в "стояка". Это
раздражает. Зимой из открытых пространств можно выбрать застывшее зеркало пруда,
где есть многочисленные пути отступления по тропинкам рыбаков. Кстати, этот
вариант был рекомендован еще Марксом: для того чтобы победить, надо уметь
вовремя отступить...
При использовании лестничных площадок
в подъездах никогда не следует располагаться на первом или последнем этаже.
Всегда между. Хорошо зарекомендовали себя площадки четвертых-пятых этажей:
всегда можно сказать, что пришли в гости, а дома не застали, или --
воспользоваться, не паникуя, лифтом.
Очень привлекательны стройки, кладбища
в черте города, скверы и зеленые насаждения. Не следует поддаваться соблазну:
это -- фактически ловушки. Настоящий опыт неуловимости приобретается в
результате неутомимой умственно-психоаналитической деятельности, внешне имеющей признаки обыкновенного страха.
Не следует обманываться на этот счет:
страх -- только поводырь в рискованном окружении.
Можно через трубочку для коктейлей
сосать общественно осуждаемый напиток из емкости, установленной во внутренний
карман пиджака. Это для любителей. Это некоторым образом эстетство и извращение
сути самого процесса, его удали.
Есть дилетантские приемы. Как то:
переливание из посуды с "плохой" наклейкой в посуду с
"хорошей", соковой, наклейкой и так далее. Но это уже не "где
пить?", а "как пить?"
Коротко об искусстве заначки.
Заначка бывает мысленно-духовная. Она
присутствует всегда. Это -- желание выпить. Оно содержится по принципу армии: в
бардаке и в постоянной готовности.
Другой род заначки -- финансовая. Она
более уязвима. Ее можно скрывать на теле, под домашним паркетом, в телефонном
аппарате, в старых тряпках. Этот тип заначки связан с характером заначивающего.
Для успешного освоения явления требуется личная скупость, пониженная
общительность.
Ну, и заначка в виде готовой к
употреблению продукции. То есть в виде полной или слегка початой бутылки. Это
недолговременное хранение, поэтому следует выбирать места, удобные для
индивидуального контакта с продуктом. Годится туалет, где в сливном бачке
прекрасно сохраняется, к тому же -- дополнительно -- охлаждаясь, любой желаемый
напиток. Для тех, кто выходит в подъезд покурить, подойдет почтовый ящик: по
дороге с работы домой туда устанавливают в вертикальном положении стеклянный
баллон, ящик запирается на ключ. После семейного ужина, надев на босу ногу
шлепанцы, мужчина выходит покурить... Есть риск потерять припасенное, но он мал
и вполне оправдан.
И еще. Из вытрезвителя приходит по
месту работы письменное сообщение о проступке члена коллектива. Если вовремя не
пресечь, не нейтрализовать эту "ниточку", то намотается целый клубок
больших и малых неприятностей. В сказках и пословицах ищется конец ниточки:
куда, мол, приведешь? У вас -- задача обратная: надо видеть начало. Это, как
правило, секретарша конторы. Поэтому о взаимоотношениях с ней следует
позаботиться заранее. Очень хороши мелкие подарки и крупные развращающие
разговоры на доверительные темы: о любви, о политике, о начальнике-идиоте...
Берегите друзей! Представьте себе
носки мужских ботинок, причем оба носка сверху непонятным образом протерты до
дыр. Как? Очень просто! -- Когда двое несут третьего лицом вперед, ноги
волочатся и носки скребут по асфальту, то есть снашиваются профессионально.
Гениальность банальна, в смысле
простоты решения. Теоретически это известно каждому едва ли не с пеленок. Иное
дело -- практика. Как-то за углом у Шуры "не пошла" третья, последняя
на данный момент, бутылка "Абалу". Точнее, принять-то он ее принял
внутрь, но сомневался: не удержишь -- не вернешь... "Попрыгай!" --
приказал сметливый Мишаня. Вино тут же улеглось в желудке на место, нехороший
рефлекс прекратился. "Гениально!" -- Шура в восхищении пожал другу
руку.
Этот способ широко прижился в нашей
повседневной практике и зачастую с успехом заменял отсутствующую закуску.
Назывался он: "Утряслось".
Достоин летописи и способ дележа
бутылки. Поскольку мы жили не где-нибудь, а в СССР, и не когда-нибудь, а в
самый разгар социализма, то понятно наше стремление поделить все честно, то
есть поровну. Как? Вопрос разлива "ноль пяти" без остатка на троих
так же труден, как решение какого-нибудь неберущегося интеграла в математике.
Выход прост. Можно поставить на стол коробок спичек рядом со стаканом и
наливать "по коробку", пользуясь этой своеобразной фиксированной
меткой прилюдно и без споров. Можно наливать в темноте "по булькам":
жидкость, вытекающая из узкого горлышка, идет толчками, порциями: буль, буль,
буль... -- легко научиться их считать. Специалисты разлива высокого класса
поступают более виртуозно, хотя тоже считают: "раздватри -- раздватри --
раздватри". Вслух. Это -- принцип "экспозиции"; у хорошего
фотографа внутри есть свое "реле времени". Так и тут.
Никогда не следует разливать "на
глазок" -- это может нанести непоправимый урон даже самой крепкой мужской
дружбе!
И последнее -- о единицах измерения.
Во всякой науке есть свои омы, ангстремы, люксы, бары, рентгены, вольты,
джоули..., а в науке о питье -- ничего! Дикость и необразованность. Но досадный
пробел легко восполнить, если воспользоваться одним студенческим изобретением.
А именно: нужно задать выпивке размерность. То есть соотнести в простейшей
формуле объем и градус. Итак, один условный алкогольный градус, растворенный в
одном литре воды, называется "керялом". Размерность: градус-на-литр.
Это -- универсальная единица измерения "косости". Привожу пример
расчетов. Сколько керялов, допустим, в одной бутылке водки? Рассчитываем: сорок
градусов делим на ноль пять, получаем -- 20 керялов. А в бутылке
"Рислинга" крепостью 12 градусов и объемом 0,7? Пожалуйста: делим 12 на
0,7, получаем -- 8,4 керяла. Выпивка, приведенная к общей единице измерения
позволяет делать строгий перерасчет одного в другое. Хочешь, скажем, напиться
рислингом так же, как с одной бутылки водки -- бери два с половиной-три
"сухешника". Будет точно! Можно еще ввести корректирующие
коэффициенты на вчерашнее похмелье или на "ерш" -- на коварный эффект
виносмешения. Удобство необычайное! -- Лишнего не возьмешь, сэкономишь и с
недобором не промахнешься. Главное -- знать свою норму, выраженную в керялах.
Если это известно и для других, общая питейная потребность легко рассчитывается
простым
суммированием. Для
каждого из нас эта цифра составляла 35-40 керялов до первого
"вырубона".

Песнь Птисы
Вытрезвитель -- это такое место, о
котором говорят по-разному: до того как "залетишь" -- со страхом, во
время "залета" -- печально, после всего -- со смехом. Единственный
свой вытрезвитель жители города знали так же хорошо,как памятник Ленину. Любой
малыш мог запросто показать, где это находится. В вытрезвителях клиентов били и
отбирали у них часы, деньги и шнурки на ботинках. Шнурки утром возвращали. И
вот -- жить стало во много раз опаснее, чем было прежде... В каждом из пяти
районов города открылось по своему собственному вытрезвителю! Клиентура
стремительно росла.
Меня повязали после того, как я
напотчевался брагой у Заводского Друга. Убей -- не знаю, зачем поперся на
улицу? Очнулся уже на топчане, от холода, почти протрезвевший. Сел. Под
потолком висела ярчайшая пятисотваттная голая лампа. Беспощадный свет не давал
спать. Пылала совесть. На остальных топчанах тоже маялись люди, коротая
проклятущую ночь. Все мужики на один манер -- в трусах. Другого личного
имущества в этом месте скорби иметь не полагалось. Свободных топчанов не было.
Но вот лязгнула железная дверь, и
внесли еще одного. Положили на бетонный пол лицом вниз. У вновь прибывшего
правая рука была отведена назад и прикована наручниками к заломленной левой
ноге. Этот унизительный прием, делающий человека абсолютно беспомощным, часто
применяли старательные ребята из оперативных комсомольских отрядов, но не
брезговали им, видать, и милиционеры. Принудительная садистская поза
именовалась "ласточка". На полу лежал Птиса. Он повернул голову, и мы
столкнулись взглядами.
-- Ха-ха-ха! Ха! Ой, не могу!
Встретить Леву? И где? В трезваке! Ну-у!!! -- Птиса, несмотря на всю нелепость
случайной встречи, был рад до последнего предела. Я тоже обрадовался ему так,
как если бы
обнаружил земляка
на Марсе.
-- Поделись нарами! -- потребовал
Птиса и я, поднатужась, перенес повыше обездвиженное тело друга. Присел рядом
сам. Мы оказались до утра запертыми, надо было как-то коротать время. Спать не
хотелось. И Птиса запел в неволе: он неожиданно стал рассказывать историю своей
жизни...
-- А ты знаешь, я ведь в детстве был
религиозным мальчиком. Моей первой настольной книгой была Библия... 208
иллюстраций Гюстава Доре! Дед каждый вечер заставлял меня читать вслух. Читать
научился в пять, а до этого листал -- картинки нравились. Не знаю, как насчет
слов, а среди картинок были и любимые... -- Я внимательно слушал закованного в
кандалы Птису. Деться все равно было некуда.
-- А потом, -- продолжал он, -- в
третьем классе я стал пионером... Я ведь помню в "Пионерской правде"
поэму Багрицкого "Смерть пионерки" -- новая волна пошла против
религии. Я затаился. Священники тогда публично каялись. Как жить? Я и газеты
читал, и ходил в церковь, и пионером был, и носил крест... Представь, какая
ломка внутри у мальца шла. А?! Потом, конечно, забыл Бога класса до десятого,
потом снова вспомнил. -- Тут я с изумлением заметил, что на шее у него,
действительно, болтается на суровой нитке маленький алюминиевый крестик. Птиса
упредил вопрошание.
-- Да нет, постоянно не ношу. Сегодня
для понта надел, -- он поворочался на топчане, ища удобства. Похоже,
заломленные конечности начали болеть. Птиса морщился. -- Из-за Бога у меня
получилась раздвоенность сознания. С этим жить трудно -- я стал во всем
сомневаться и искать ответ. В двадцать лет я додумался, что скептики -- это
коррозия общества. А у нас как раз такое общество, которое надо разъедать. Я
понял, что жить страшно.
Как-то купил книгу великого древнего
китаезы Жуань Цзи -- философ был такой -- и прочитал. Мужик жил в эпоху самого
зловещего императора Ши Хуань Дина, который всех в стране вырезал -- типа
нашего Грозного был. А Жуань Цзи остался жив и умер своей смертью. Как?! Да он
гулял, не просыхая! К нему шпионов приставят -- он месяц гуляет, два, год... --
о чем тут доносить? Причина нужна, чтобы осудить на смерть. За что? За пьянку?
-- Не серьезно! Так вот всю жизнь и прожил. Существует портрет Жуаня: перед ним
здоровая чаши с вином поставлена, а в чаше -- уточка плавает. Э-ить! Эстеты! А
он сидит с белыми глазами. Понимаешь, почему с белыми? Потому что зрачки у него
повернуты внутрь, в себя -- ему там интереснее, чем здесь...
А затем я усвоил теорию даосизма --
теорию недеяния: не надо ничего делать. И теорию потока и ветра. То есть несет
тебя по жизни -- вот пусть и несет...
Если честно сказать, я очень прилично
знаю живопись: полное собрание сочинений Джорджа Вазари, и Делакруа, и письма
Ван-Гога брату, толстенные монографии по импрессионизму, постимпрессионизму --
всех читал! Все легло куда надо. Правда, видел я в черно-белых иллюстрациях, а
не в цветных, как весь нормальный мир. То же и с музыкой, политикой, историей,
спортом, разными там учениями... Я ведь и книги из библиотек ворую только те,
которые никто не читал: Ивлин, Апдайк, Лагерквист, Хеллер, Элиот, Паризе... Ну
скажи, какой дурак в нашей провинции слышал о величайшем поэте двадцатого
столетия, нобелевском лауреате Элиоте? Что за стихи он там нахерачил в своей
Англии? Элиот! -- Слова здесь такого никто не знает! Б...! -- Птиса дернулся и
застонал. Наручники на нем были особые, самозатягивающиеся от лишних движений.
Металл начал впиваться в кожу.
-- Как общаться, если поговорить о
том, что мне интересно, не с кем? Жить невозможно, скучно! -- пожаловался
Птиса. Я почувствовал себя жалким, виноватым дурачком перед ним. -- Знаешь, я в
официальные праздники никогда не пью -- это личная форма протеста. Противно!
Надо же, чтоб интересно было! Возьмешь в понедельник три "сухешника",
пару водочки, "старки", селедочки, краснухи штук семь-девять,
сырку... -- все! не ищите! -- на три дня укомплектован. Ты же знаешь, я и в
одиночку очень люблю. Три дня прошло -- смотришь на мир совсем другими глазами:
обновление! Отлично!
А ты "Екклезиаст" читал?
Е-мое! Половина всех названий -- оттуда. И "Восходит солнце"
Хемингуэя, и "Время жить, время умирать" Ремарка... Можно ни хрена не
делать -- все оттуда!
-- Откуда? -- не понял я.
-- Из Библии! Вся мировая литература
вышла из нее. Не важно, признавали авторы это или нет, -- оттуда! Честнее, чем
в Библии, все равно не скажешь. Все оттуда! Даже в музыке... Возьми у Баха:
"Страсти по Матфею", "Страсти по Иоанну"... А без этого
как? Христа когда вели с крестом-то, он остановился у дома одного мужика: дай,
дескать, попить. А тот -- "Пошел ты!.." Христос в ответ:
"Скитаться, парень, будешь, и никто тебе не подаст..." Скитаться не
просто по земле, а -- по временам, эпохам, по народам, в себе самом... Агасфер
так трактует. Я уж не говорю про Борхеса! Ты читал Борхеса?
-- Нет.
-- Э-ээ... Когда дед зачел мне
Апокалипсис, я плакал... Страшно было. Как всякая эзотерическая литература,
Апокалипсис вызывает очень смутные ощущения... Ты знаешь, что такое
"эзотерическая"?
-- Нет...
-- Есть экзо-терическая -- это опыт, а
есть эзо-терическая -- помимо опыта. Так сказать, знание, обращенное
непосредственно к другому знанию. Каждый из нас старается выстроить островок
посреди жизни. Знаешь, почему я не заделался диссидентом? Все тот же здравый
смысл: ну, заделаешься... -- тебя сразу и ухлопают! Машина сломает, никто и не
заметит... Зачем? Я устроил для себя свою личную свободу! Личную! Она не
велика, но мне хватает. Советский человек вообще закален: когда тебя
коммуниздят со всех сторон, привыкаешь, перестаешь на это реагировать.
"Давай об этом забудем!" -- говоришь сам себе. И -- точка. Все!!!
-- Заткнитесь вы там! -- заворчали
трезвеющие мужики на холодных нарах.
Птиса сощурился на одного из них:
-- Я ведь тебя запомнил, я ведь тебя
уделаю, как только кандалы скинут. Зар-раза!
Мужик оказался психом.
-- Милиция! Милиция! Товарищ
милиционер! -- закричал он истошно.
-- Чего орешь? -- заглянули в
маленькое зарешеченное окошечко.
-- Угрожают! Спать невозможно!
К скандалисту присоединились еще
несколько голосов:
-- Порядок!.. Наведите порядок!.. Мне
на работу к восьми!..
Птиса вздохнул:
-- Сейчас п...дить будут.
И точно. Вошли два щупленьких парня в
форменной одежде, скинули Птису на пол и стали безобразно молотить чем ни
попадя по беззащитному телу. Обитатели вытрезвителя удовлетворенно помалкивали.
Помалкивал и я, испугавшийся, притихший, подленько счастливый от того, что бьют
не меня...
Когда все закончилось и милиционеры
ушли, я стал суетливо обихаживать пострадавшего друга:
-- Больно, а? Больно? Суки! Птиса!
Птиса не разговаривал. Глаза его были
закрыты, лицо спокойно. В таком состоянии он находился до самого утра. Я решил,
что его серьезно покалечили, и мысленно выстраивал различные варианты
справедливого возмездия.
Утром наручники сняли. Установили наши
личности, выписали штраф и отпустили на волю.
-- Ты без сознания был... -- виновато
сообщил я Птисе.
-- Дурак ты! -- развеселился он. -- Я
в дзен ушел!
-- Куда?
-- В дзен! В отключку, значит. Способ
такой у древних китайцев был, чтоб херовую жизнь обмануть: они сознание
специально за пределы своего тела уводили. Понял?
-- Нет. А зачем?
-- Чтобы не спятить! -- и Птиса заржал
на всю улицу. Мне показалось, что так смеяться может только очень счастливый
человек.

Психотворения в
прозе
1.
Здравствуйте! Только-только заснул!
Господи! Сколько это будет продолжаться?! Я тяжко простонал и открыл глаза.
Безутешно орала в детской кроватке дочь. Мышка стояла надо мной, вперив в то,
что лежало на диване, змеиный маловыразительный немигающий взгляд. Одеяло она
сдернула, оно валялось на полу. На простыне всюду чувствовались крошки сухарей,
которыми Мышка надеялась отравить мой сон. Собственно, с этими финтами я уже
был знаком. Но обнаружилось и нечто новое. Мышка стояла в одних трусиках,
спутавшиеся волосы падали ей на лицо, придавая ему особую зловещесть. Обеими
руками эта маленькая, разъяренная самосожалением женщина приподнимала мой
туристский топор, явно намереваясь раскроить мне череп. Я удивился собственной
реакции. Реакции не было никакой. Не было ни страха, ни желания вступать в
переговоры. Мой ответный взгляд равнодушно скользнул по ее, испорченному
беременностью, животу, по деформированной кормлением груди, по ярко-желтому
топорищу... Наконец наши глаза встретились. Непрекращающийся крик ребенка
накалял все сильнее и без того уже пылающую атмосферу семейного корабля.
-- Я тебе за все отомщу! Ты украл мою
молодость, ты сорвал мой цветок. Гад. Гад ползучий! Таких, как ты, надо давить
в роддоме. Скотина!
Я лежал, спокойно наблюдая за ее
действиями. Она уже занесла топор достаточно высоко; можно, пожалуй, рубить.
Как она неумело все делает! Силенок маловато...
-- Весь диван кровью зальет, -- сказал
я, -- в человеке крови полно.
-- Сильно зальет? -- сразу
встревожилась Мышка.
-- Сильно. В химчистку не возьмут.
Кровь очень плохо отмывается...
-- Сука! Если б не диван, не встал бы
ты у меня!
Все. Она перегорела. Швырнула топор в
угол комнаты, перекрыла на миг этим грохотом плач дочери. Подошла к кроватке,
подняла маленького человечка, сунула грудь.
-- Жри, отродье!
Стало тихо.
-- Уходи! Видеть тебя не могу! --
Мышка говорила сквозь зубы. -- Не уйдешь -- пожалеешь...
Ладно. Дело привычное. Не себя ради --
ради нее же стараюсь: упекут, припадошную, в тюрягу...
Ночной марш-бросок занял минут
двадцать.
-- Квадратный метр и офицерскую
шинелку не выделишь? -- хмуро напал я на
зевающего в дверях коммуналки Ломова.
-- Ага. Полная конфронтация.
-- Зах-ходи!
Мне несказанно повезло: Махамолю днем
увезли на "скорой помощи" в стационар невропатологии с парализованной
правой половиной тела. Аукнулись, видимо, деньки веселые. Впереди у Ломова был
месяц вольготной жизни. Не меньше. Ломов специально приставал к врачу, чтобы
поточнее выведать срок существования в автономном режиме. Счастье
совместно-неподконтрольной мужской жизни переполнило нас.
-- Она на меня в суд подала, -- сказал
Ломов.
-- Неужели развод? Отлично!
-- Нет. За дебош как бы...
И мы опять заржали, поровну чувствуя
напор внешних враждебных сил глупой жизни.
Утром мы поняли друг друга без слов:
будет запой. Гори она, наша Контора, синим огнем, пылай, родимая. О какой
работе речь, когда жизнь проходит -- жить некогда! Кто бы прибеднялся: у меня
не было дома, у меня не было детства, оно еще -- не начиналось...
"Орлы" менялись, как караул
у мавзолея. Два раза приходил Шура, информировал, каким образом Карасим врал
шефу про наше отсутствие. Опираясь на хрупкие молодые, но выносливые от
большого уважения плечи Малого, делал приковылятельство Птиса. Просвистел, не
заходя в квартиру, под окнами взмыленный Мишаня на велосипеде. Приводил
какую-то бабушку Кол, причем называл ее своей невестой. Все знали, что мы с Ломовым
пошли в "пике", то есть в запой. Алкогольный телеграф-там-там разнес
эту весть по городу среди пьющих единомышленников. Узкий круг наших лучших
друзей умел хранить тайны. Это -- закон клана.
Когда закончились все рауты и визиты
вежливости, когда исчерпал свой запас отряд солидарных и сочувствующих пьющих
элементов, когда в последний раз прозвучали вслед гостям слова: "Очень,
очень рады с вами попрощаться!" --
вот тогда, наконец, остались мы с Ломовым одни.
Одни-одинешеньки. Шел по времени уже день третий или четвертый кирного
сосуществования. Собственно, тела у нас были, конечно, разные, а духом мы уже
слились в единый и нерушимый монолит. Дух у нас был что надо!
Просадили на вине уже рублей двести.
Не ели ничего. Нечего было кушать. Пили водку, когда в желудке урчало. Утешало,
что в какой-то брошюрке когда-то кто-то вычитал: в ста граммах водки содержится
сто восемьдесят пять килокалорий. Чем хуже грудного молока, скажем? Знай наших!
Короче, когда желудок начинал возмущаться, дух убеждал его потерпеть и не
скандалить, потому что калории -- это факт.
Я хорошо помню, что жительство у
Ломова я начинал на полу, на матрасике. Почему-то вскоре там оказался сам
хозяин квартиры, а я занимал один брачное диванное ложе четы Ломовых. Мой друг
лежал, тихо блея, уткнувшись запрокинутой макушкой головы в переполненную
окурками тарелку-пепельницу.
-- О! О-о! У-о-ы... -- сигнализировало
его тело о полной физической дисгармонии. -- О-ко-кок! -- продолжал кричать
Ломов. Это капало на нервы, мешало сосредоточиться на чем-то важном... На чем?
На... А! -- На самоубийстве! Теперь я знал точно: пора! Я глядел на Ломова...
Но его вид никак не соответствовал высокой минуте прощания. Досадно!
-О-о! А-а! У-о-ы...
Мы оба впали в странное состояние --
лежали пластом, почти не разговаривая; избушку давно закрыли на клюшку и не
открывали теперь никому, не поддаваясь ни на какие уговоры;
соседи-коммунальщики были уверены, что нас нет -- так было тихо! -- лишь
глубокой ночью выходил, пошатываясь от слабости, кто-нибудь из нас за водой на
кухню или в туалет. Удивительным было и то, что мы перестали спать: круглые
сутки находились в состоянии какого-то бодрствующего ступора: органы чувств еще
работали, функционировали, а организм уже ни на какие раздражители не
реагировал... Замечательно и то, что мы, запечатавшись в ломовском унылом
пенале, больше не лопали, не совершали десантных бросков-закупок до ближайшей
"спецухи" -- винного магазина. Нажрались досыта, больше не лезло. Но
отрезвление не принесло почему-то желания возвращаться в обычную суету мира.
Жить не то чтобы не хотелось -- было все равно. Будто, разогнавшись слегка на
ровной местности, врубил шофер нейтралку и -- катился пока по инерции... На
шестые бессонные сутки мы начали с Ломовым понимать друг друга без слов. Правда,
модификации понимания были не так обширны: попить -- сходить в туалет, сходить
в туалет -- попить... Ну, еще мы замирали в замечательной синхронности, если
очередной общественный благодетель-радетель стучал в дверь, пытаясь выковырять
нас из тайного гнезда и вернуть в лоно общественной жизни. Голод, могучая
алкогольная интоксикация вначале, страх какой страх и тоска какая тоска сделали
свое дело -- мы начали заметно худеть. Это дало повод к развлечению. Из
последних слабых сил вставали мы с Ломовым раз в сутки на измерительный весовой
прибор -- напольные бытовые весы,
пытаясь уловить отрицательную динамику собственной тяжести. Планета нас
притягивала все меньше.
Слабо заговорили. Стали по-очереди
вспоминать все самые-самые свои подлости и свинства, накопленные с детства по
сей день. Самые-самые! -- в которых и себе-то до сегодняшнего дня было
невозможно признаться. Случались, конечно, короткие эпизодические прорывы
исповедальности и раньше, но они лишь веселили: "Ай да мы, сволочи! Ай да
мы, паразиты! Ну, ничего святого!.." Теперь было другое. Слабо ворочая
языком, мы вытаскивали наружу такие сведения о себе, такие оценки... Чувства не
работали. Исповедались безразлично, без бравады и привычного мазохистского
наслаждения, будто вытекала из этого тела и духа -- самая глубинная, самая
недоступная донная грязь личной жизни.
Стали мерещиться голые женщины.
Мучительно захотелось размножаться.
-- Ужасательство наше в том, что
воображением ума мы теперь это делаем лучше, чем механическим путем, -- сказал
Ломов.
Я простонал в ответ, подтверждая
полную синхронность ощущений.
-- Надо онанизмом заняться, -- подал
Ломов идиотское предложение.
-- О-о-о, у-у, а-э-э.. -- в ответ.
-- да... И на это силы кончились... --
подтвердил Ломов.
Яркие цветные картинки мелькали перед
мысленным взором, как в порнографическом слайд-фильме. Мелькали очень быстро,
не повторяясь и не задерживаясь на "экране" дольше секунды.
Ослабленно они продолжали мелькать и тогда, когда в сумерках мы лежали с
открытыми глазами.
-- Начинаются галлюцинации, -- сказал
Ломов и охая полез шарить на полу вокруг матрасика -- в поисках приличного
"бычка", хорошего окурка то есть. Куреву пришел конец.
-- Едьба невозможна, -- объявил житель
пола.
-- Ез, -- подтвердил житель дивана.
Теоретическое обоснование было
нащупано раньше. Попробую пояснить. Когда похмельная жизнь трясется, как овечий
хвост, на самом краю человеческих возможностей, то "завести" желудок
так же трудно, как двигатель внутреннего сгорания, простоявший ночь на
сибирском морозе. Последние силы уйдут на "заводилку" желудка. И --
все! Ни завода. Ни сил. Вообще ничего. У нас в Конторе многие мужики так
померли. Собственно, мы тоже хотели помереть, но -- сопротивлялись.
Под дверью скребся Карасим.
-- Отцы! Вы здесь? Эй! Идите в
Контору, еще не поздно... По выговору, конечно, схлопочете, но это лучше, чем
по тридцать третьей... Эй...
Мы уже привыкли к подобным домоганиям.
Пробовали взять нас осадой и те, кто сопровождал "пике" в его
начальной стадии. Нет, мы стойко изображали полное отсутствие и ни на какие
уговоры, угрозы и провокации не реагировали. Царапнули, правда, по сердцу два
"непросчитанных" визита -- наших отцов. Больно и стыдно было слушать,
как старики, унижаясь, вразумляют нас через закрытую дверь...
Шли десятые или одиннадцатые сутки.
Точный счет мы потеряли. Вес тела падал. Поход на весы назывался у нас
"подвигом", как, впрочем, героических усилий требовали и походы к
кухонному крану и в туалет. Измерительный "подвиг" выглядел так:
взвешивающийся, пытаясь унять гуляющие колени, взгромождался на измерительную
площадку. Второй стоял на четвереньках, готовый зафиксировать короткую
остановку дико скачущей и трясущейся шкалы, передающей тряску ослабшего тела --
объекта наблюдения. Чтобы остановить на миг шкалу, надо было взяться руками за
край стола, расслабиться, опустить руки... Второй успевал считать показания
прибора... Вес падал. В день по килограмму получалось Ломов сбросил десять, я
-- одиннадцать. Ноги в икрах похудели до дистрофического вида.
Пятнадцатые сутки самоистязания были
последними. Мы открыли дверь. Кончился юмор. Кончился страх. Осторожно покушали
жиденького чаю. Прошиб пот. Как сказал писатель Платонов, опять надо жить.
2.
В ушах сначало попикивало, и я резко
оглядывался, пытаясь засечь направление звука зуммера телефонной
станции-междугородки. Чушь. Но зуммер был. "Так тебе и надо, дураку!"
-- сказал я себе искренне.
Желудок уже "завелся", Мышка
находилась в спокойной стадии семейного противостояния и не притесняла, не
мстила пока, в Конторе дали выговор, и я усиленно замаливал грехи передовой
работой. Жизнь постепенно возвращалась к радости от факта собственного наличия,
если формулировать по- ломовски.
Попикивание происходило не каждый
день.
Однажды я ехал в троллейбусе до
Конторы. Трясло, шумел мотор, дребезжали стекла и металлические переборки,
обшивка. Сквозь этот гул вдруг стало пробиваться какое-то беспокойство... Я не
понял. Пробовал читать -- не получалось. Что-то отвлекало. Пробовал пялиться в
окно -- ловил себя на том, что смотрю глазами... внутрь себя, как при
задумчивости без слов. Что за черт!
И вдруг...
-- Ты слышишь наш голос... ты слышишь
наш голос... ты слышишь наш голос... ты слышишь наш голос... -- мужской гулкий
баритон перекрывал шум едущего троллейбуса. Я стал озираться, пытаясь найти
говорящего. Его не было. Люди равнодушно сидели. Стояли, ссутулившись, две --
на выход -- бабушки...
-- Пендец! Допился! -- сказал я вслух.
На меня посмотрели. Пришлось взять себя в руки.
-- ...ты слышишь наш голос... ты
слышишь наш голос... ты слы...
-- Белая горячка! -- похолодел я от
догадки. Господи! Как же это?!
-- ...ты слышишь наш голос... ты
слышишь наш голос...
Мать честная! Кранты пришли! Но тут я
сообразил, что думаю независимо от голоса: все мое -- при мне. Голос шел
откуда-то. Звучал он не в ушах, скорее, где-то под затылком... Мать-перемать!!!
-- ...ты слышишь наш голос... ты
слышишь наш голос...
Да слышу, слышу! Первый испуг прошел.
Мысленная ревизия мозгов показала, что, в общем-то, все в порядке, только,
видать, от бессонницы и голода замкнули в голове два проводочка-нейрона.
Ничего, пройдет, должно пройти. И я улыбнулся необычности происходящего.
-- ... ты слышишь наш голос, --
настойчиво долбили под черепушку.
Забавно. Если я сошел с ума, то никак
не должен об этом беспокоиться. Где-то слышал, что психи ни за что не
признаются, что они психи. А я был уверен, что произошло частичное
помешательство, которое не задело устройство личности, а как бы к ней
присоединилось. Вот был я, сам по себе. Это добро осталось в неприкосновенности.
Кажется. Только к моему "Я" теперь добавился еще и Голос. Собственно,
пусть будет... Только очень уж однообразная назойливость.
-- Ты слышишь наш голос... ты
слышишь...
Я развеселился, вспомнил целую серию
анекдотов про "внутренний голос", представлял, как сейчас залеплю
ребятишкам небывалое сообщение.
Я выпрыгнул из троллейбуса, надеясь,
что Голос провоцировался лишь грохотом едущей железной коробки. Почему-то
думалось именно так: нельзя же было оставлять без объяснений необъяснимое.
Вроде тихо. Я улыбнулся облегченно,
пружинящим шагом прогарцевал метров сто. И вдруг!
-- Ты слышишь наш голос! Ты слышишь
наш голос! Ты... -- кричали, как на Красной площади в день Первомая, провода,
здания, машины. Между зданиями гуляло эхо. У меня по спине потек холодный пот:
все, конец всему! -- я -- спятил! Конец семейным мучениям, конец работе,
друзьям, мечтам... Господи!!! И тут я окончательно понял, почувствовал всем
существом: Голос идет с неба, откуда-то очень издалека, судя по явлениям
интерференции -- то затухания, то усиления интенсивности "звука" под
черепной коробкой.
Видуха, небось, была еще та: в Конторе
на меня уставились с любопытством.
-- Откедова такой вздрюченный? -- прикрывая
ладошкой зевоту, промычал Кол.
-- Слушайте! Я -- обалдел!
-- Ну?! И давно?
-- Нет. Только что, сейчас, в
троллейбусе... -- я запнулся, прислушался к внутренней тишине. Голоса не было.
Пропал! Бормотал в комнате включенный телевизор, перебрасывались фразами
сотрудники.
Подошел Шура.
-- Ты что, старичок?
-- У меня -- Голос... Был...
-- Что передали? -- в глазах Шуры мне
померещилась нехорошая зависть. Нет, наверное, померещилось от того, что сам
такой...
-- Ничего не передали. Одна фраза в
башке замкнулась. Долдонит и долдонит.
Мускулы на лице Шуры расслабились. Он
обнял меня.
-- Брось. Не переживай, пройдет, не
такое мы еще переживали, -- вид его был скорбным. -- Божественной речи по
пьянке не услышишь... А услышишь -- сгоришь! -- И Шура очень многозначительно
заглянул мне в глаза.
Голоса не было.
Я дотопал к себе на рабочее место,
плюхнулся на стул, закурил, наслаждаясь внешней и внутренней тишиной.
Замечательно! Оказывается, нет на свете ничего радостнее подвластной тебе
тишины! Ни телевизора тебе, ни бозара, ни внутренней мысленной болтовни. Блеск!
-- ...Ты слышишь наш голос... ты
слышишь наш голос... -- ОЙ! Надеяться больше было не на что. Голос существовал
независимо от моей воли и доставал всюду. Я заткнул уши пальцами.
-- Ты слышишь наш голос! Ты слышишь
наш голос! -- требовательно звучало в изолированной от внешних раздражителей
голове.
Я механически взял какой-то листок с
официальной писаниной и заскользил по строчкам взглядом, читая. Голос тут же
исчез! Я засек. Стал экспериментировать: отвлекусь -- есть Голос, начну читать
-- нет. Вскоре обнаружилось, что незваного пришельца "гасит" также
включенное радио, телек, разговор с кем-нибудь... Но нельзя же все время
держать себя на информационной включенности! Это, как ни крути, -- временная
"затычка": одновременно спать и беседовать, например, никак не
получится. Не Цезарь. А в каждую паузу, едва она возникала, тут же
вклинивалось:
-- Ты слышишь наш голос! Ты слышишь
наш голос! -- Эти волны неба легко пробивали многослойный бетон нашей Конторы,
давая полное ощущение заговоривших сфер. Господи, да за что же это! -- Я
почувствовал себя одиноким до единственности... Я точно знал: ни человеческая
медицина, ни пьяная "реанимация" через очередную попойку -- ничего не
изменят: Голос сильнее всех!
Я смирился и стал работать. Даже
увлекся, поскольку чувствовал после выговора подъем творческих возможностей.
Было хорошо. Потому что, пока я работал, голос -- молчал; ему не находилось
места в варящем котелке... Вольно или невольно, но я был вынужден наблюдать за
собой как бы со стороны, так, как исследователь смотрит на препарируемую
лягушку -- бесстрастно и внимательно одновременно. Я соображал: обращаться ли к
психиатру, или попробовать жить с внутренним увечьем? Наблюдение показывало:
Голос так просто не отступится.
Я махнул на все рукой: будь что будет!
Контору уже облетел слух, что после пятнадцатидневного запоя у молодого алкаша
врубилась "внутрия". Дверь кабинета довольно часто открывалась, в
щель протискивалась чья-либо голова. Интересовались.
-- Есть еще?
-- Есть... -- кивал я трагично, глядя
на мелькающих -- любимых и не очень любимых людей -- глазами камикадзе.
Поплакаться Ломову я не мог. У Ломова
на самом кончике носа вырос гигантский фурункул. Ломов лежал в своем
коммунальном пенале в полном одиночестве с высокой температурой. Ему дали
больничный. Хотели положить в стационар, но не уговорили. За чирей на носу
Ломов расписался перед врачами в специальной карточке: что, мол, если помрет
дома от сепсиса, то врачи -- не виноваты... Голоса у Ломова не было... Голос
был у меня... У меня не было чирья... О-ко-кок!
Я пробовал тихонько петь. От песен
Голос тоже тух. Так что конец рабочего дня я провел в песнях, точнее, в
повторении одних и тех же, запавших когда-то в душу, строчках:
-- Святый боже! Святый крепкий! --
Сохрани и помилуй нас!..
-- Ты слышишь наш голос! Ты слышишь...
-- звучание его окрепло. В паузах, не занятых никакой деятельностью, он гремел
как из репродуктора, он будоражил, как набат.
-- Шура! Проводи меня! -- попросил я к
вечеру, снабдив просьбу дрогнувшими -- от обреченности -- интонационными
нотками.
-- Какой разговор! Давай к Заводскому
Другу? Деньги найдем.

-- Нет. Спасибо. Я не... не хочу. Не
буду... Не могу! Я вправду прошу проводить... -- я никак не мог выразить точно:
чего хочу со всей определенностью? Квасить я не хотел. Хотелось, чтобы рядом
был просто товарищ. Шура этого никак не мог взять в толк.
-- Ты не придавай значения, -- сказал
Шура. -- Пройдет! У меня еще хуже бывало!
Но сравнительная терапия -- когда
рассказываешь о собственных злоключениях, а ближнему от этого становится
почему-то легче -- на сей раз не действовала. Честно говоря, мне было глубоко
плевать на то, что у Шуры "еще хуже". Потому что у меня у самого было
теперь -- хуже некуда! Так чего же тут сравнивать?!
Мы вышли из Конторы.
-- ...ты слышишь наш голос...
Мы двинулись по асфальту улицы.
-- ...ты слышишь наш голос...
Мы рухнули на сиденье в полупустом
троллейбусе.
-- ...ты слышишь наш голос...
Господи! Черт!!! Это -- пытка!!!
Шура что-то лениво спрашивал. Я
отвечал невпопад, как боксер после нокдауна. Сквозь грохот троллейбуса гремел
Голос.
-- Ты слышишь наш...
-- Кто вы? -- задал я неожиданно для
самого себя мысленный вопрос, прекрасно
понимая, насколько глупо и абсурдно спрашивать о чем-либо у заевшей пластинки.
-- Ты все узнаешь!
-- КТО ВЫ?!!! -- завопил я мысленно.
Лицо от напряжения покрылось потом, руки тряслись. По какой-то внутренней
команде я не мог открыть Шуре, что Голос заговорил!
-- Кто вы?
-- Ты все узнаешь. Твоя остановка --
Щорса. Ты слышишь наш голос... ты слышишь наш голос... ты все узнаешь... ты
слышишь наш голос... твоя остановка -- Щорса... ты слышишь...
Пластинку опять заело. Я взял себя в
руки. Остановка Щорса находилась за несколько кварталов от моего (извиняюсь,
Мышкиного) дома. В голову лезли всяческие догадки, источники которых были
почерпнуты из сенсационных газетных сообщений о телепатах-экстрасенсах и из
какой-то книжки, где говорилось об опытах с "волной пси" -- жестким
сантиметровым излучением, которое якобы могло действовать на психику. Мои
дилетантские поиски объяснений метались вокруг черепа вихревой электронной
кашей. Ум разделился: одна его часть находила объяснения и вполне
удовлетворялась этим; другая часть мозга отметала все объяснения к черту и
призывала к здравому смыслу: что я -- свихнулся... Над всей этой возней парил
Голос. Он словно постепенно приручал к себе две моих ссорящихся половинки
головы...
Мгновенный всплеск нового страха
исчезал на удивление быстро. Его вытесняло любопытство.
-- ...ты слышишь наш голос...
-- Кто вы?
-- Твоя остановка -- Щорса...
Я удивлялся самому себе. Игра --
мысленный диалог -- начинала нравиться.
Шура потряс за плечо. Я посмотрел на
него, как в пустоту, не сфокусировав зрения. Вроде бы извинился. И -- вышел.
Шура мешал диалогу с небом, и это было чрезвычайно важно... Двери захлопнулись,
троллейбус укатил, увозя обиженного Шуру. Я стоял на остановке Щорса примерно в
таком настроении: " Ну, ладно. Так и быть. Ну, вышел. Что дальше?"
-- Иди! -- сказал Голос.
-- Куда? -- издевательски смело
спросил я этих... это...
Небо замешкалось, явно выказывая
слабую способность к ориентации в местных условиях. Я решил помочь незнайке.
-- Север? Юг? Запад? Восток?
-- Юг! -- уверенно прогремело сверху.
Это мне подходило, это было как раз по пути к дому. Я милостиво решил
соизволить прогуляться пешком.
-- Иди домой! Иди домой! -- загремел
Голос в новой настойчивостью. Я опять
развеселился от его неуемного идиотизма. Мысленно телепнул:
-- Я, между прочим, домой и ехал! На
хрена было выходить, чтобы идти туда же пешком?
Реплика осталась без внимания.
-- Иди домой! Иди домой! Связь --
через дом!
Словарный запас Голоса увеличивался с
каждой минутой. Мелькнула мысль о космических пришельцах. Она не удивляла и не
пугала. Непонятно было только: почему именно я?
-- Почему домой? -- подумалось мне.
-- Дом -- лучшее место для связи! --
был немедленный ответ. Причем моя мысль еще не успела толком оформиться, а
ответ уже был дан. Вот это скорость! Стоп! А ведь, значит, и скрыть ничего
невозможно? Эпидемия правды?! Я явственно почувствовал, как невидимый
собеседник сдержался на высказывание. Лишь опять монотонно:
-- Иди домой! Иди домой! Ты слышишь
наш голос...
Неожиданно я засек в своей психике
новую трансформацию: фраза "ты слышишь наш голос" -- вызывала
восторг! Так, наверное, разведчик рад слышать долгожданный пароль... Что ж,
если это сумасшествие, то оно мне нравится! По крайней мере, по силе
впечатлений это превосходило все, что я знал до сих пор... Так я стал думать.
Нет, не думать -- знать! Думать не думая! Могущественный друг -- небо --
призывало к сотрудничеству. Я очень хотел, чтобы все были счастливы. Очень! Я
хотел этого до пронзительно-болезненного отчаянья одиночки. Бывшего одиночки!
Теперь я ощущал на себе величайшую миссию спасителя человечества. Не меньше. И
хоть пытался мой внутренний пессимист образумить восторженность элементарной
логикой обыденности -- получалось слабо. Восторг уже сменился высочайшей
концентрацией внимания. Я был готов к немедленному и ЛЮБОМУ сотрудничеству.
Дома на столе я обнаружил записку:
"Свари кашу". Как всегда, Мышка предпочитала объясняться в
повелительном наклонении.
-- Полное внимание! Полное внимание!
-- требовал Голос.
Я раздваивался. Засыпать крупу в
кастрюлю, залить все водой и поставить на огонь -- отняло столько сил, что
показалось: вагон вина разгрузил натощак...
-- Полное внимание! Мы сможем помочь
тебе, а через тебя -- всем людям вашей планеты... -- далее последовал монолог,
который я не смогу воспроизвести. Помню только, что пик моего восторга слился с
грохочущей патетикой неба о прекрасной и вечной свободе. Только за кого ОНИ
меня принимают?
-- Я -- недостоин... -- прошепталось
мысленно.
-- Ты не знаешь своих возможностей.
Задавай любые вопросы.
-- Кто вы?
Молчание.
-- Хочу услышать испанскую речь! --
неожиданно потребовал я.
Это они исполнили сразу.
-- Неужели на Земле нет более
достойной кандидатуры? Сколько ученых! Сколько прекрасных, выдающихся
специалистов!
Они опять игнорировали.
-- Внимание! Полное внимание! Ты
слышишь наш голос!
Потом произошло НЕЧТО, чему нет
названия. Пробовать можно лишь дать отдаленную словесную интерпретацию
ощущений. Явственно, физически я ощутил, как упрямый, непрерывный луч, упавший
сверху, цепко нащупал мое существо: другой луч, но уже идущий от меня -- вверх
-- так же цепко терялся в ощутимой бесконечности; по обоим лучам неслись с
дикой скоростью огромные потоки живой информации. То, что я считал своей
личностью, стояло как бы в стороне в целости и сохранности, без всякого
понимания являясь лишь свидетелем того, что ЧТО-ТО происходит. Не считая
Голоса, нас было ТРОЕ! О втором "Я" мне рассказывал Шура, а вот о
третьем...
-- Я не успеваю понять. Я так не
умею... -- пожаловался я.
-- Прекрасно! Прекрасно, дорогой ты
наш! Ты скоро всему научишься! Ты -- молодец! -- И Голос стал нахваливать меня
так, как никто никогда в жизни не хвалил. Я успел отметить, что если
"подсознание" поставляет мне такой поток лести, то, значит, это
глубинное, значит, в детстве я был обделен на похвалу...
-- Это так? -- спросил я.
-- Глупенький!
Я закурил, на несколько секунд
рассредоточившись.
-- Где ты? Мы тебя не слышим! Мы -- не
слышим! Где ты? -- жутко занервничало небо.
-- Здесь.
-- Что ты делаешь? Мы не понимаем?
-- Курю. Никотин. Легкий наркотик.
-- Брось! Немедленно брось! -- заорали
сверху. Я выщелкнул горящую сигарету вон, потом достал только что распечатанную
пачку "Опала" и с легким чувством запустил ее куда подальше.
Вернулась Мышка. Ребенок остался
ночевать у "яблоньки", то есть у тещи. Мышка подозрительно глянула на
меня, окаменевшего, стоящего у окна с задранной башкой, не реагирующего ни на
что. На плите чадила горящая каша.
-- Ты не должен говорить о нас никому!
Иначе -- немедленная смерть! Не только твоя. Всех! Всех, кто связан с тобой! --
предупредило небо очень строго. Я принял это как аксиому. Опять стало страшно,
как от безнадежности. Голос порабощал.
Мышка выключила плиту. Не оскорбила,
не закричала. Почуяла, что "жареным" здесь пахнет не только из-за
каши.
-- Чего ты? -- ткнула кулачонком в
бок.
-- Тихо... не мешай, -- попросил я об
одолжении.
-- Ну, хватит! Придурок! Иди половики
тряси, гадина!
Уже выглянули звезды. Половики я
выбивал как во сне.
-- Как мне жить с ней? Как мне с ней
жить дальше? -- мелькнула мысль...
-- Она тебя любит! Она тебя любит! --
восторженно загремело небо в ответ. Я не мог поверить, но сердце почему-то
прыгало в груди от радости. Я запрокинул голову к звездам; со всех концов
огромного купола неслось:
-- Она тебя любит! Любит! Любит!
Это было потрясающе! Я -- верил.
Потом произошло вот что. Там, где
сходятся брови -- над переносицей -- вырос... луч. Щуп. Зонд. Длинное невидимое
лезвие, имеющее некоторый легкий вес. Я попробовал вертеть головой -- луч
послушно следовал туда, куда мне хотелось прицелиться. Причем если в зону
сканирования попадал, допустим, жилой дом, то я с уверенностью мог заявить, что
доподлинно знаю этот дом и то, что там происходило, происходит и произойдет
еще. Черт его знаю как, но -- знаю! Уши, глаза, осязание, обоняние -- все это
отошло на второй план. Главным стало материализовавшееся чутье -- Луч. Голос
теперь шел исключительно по Лучу и звучал уже не под темечком-затылком, а прямо
в основании Луча -- подо лбом.
Вдруг Голос начал резко слабеть и
удаляться.
--Ты остаешься один на один со своими
испытаниями! Прощай! Ты должен выдержать! Ты!..
Меня охватила воистину безумная
паника. Я лихорадочно шарил Лучом во все стороны, пытаясь поймать удаляющегося
собеседника по максимальной громкости. Голос уходил, удалялся... Догнать!
Немедленно догнать, чтобы услышать самое главное! Догнать! Я бросился бежать!
Это был даже не бег -- почти полет!
-- Во дает! -- крикнул на перекрестке
один мужик другому, показывая на меня пальцем. Мне было абсолютно безразлично
их досужее внимание. Решалась не моя судьба -- решалась судьба человечества! Я
совершенно точно отдавал себе в этом отчет. В полнейшем изнеможении я
остановился в каких-то кустах, держа на покачивающейся от ударов сердца шее драгоценный
Луч -- еле слышную ниточку связи...
Было, кажется, девять
"экзаменов". Голос предлагал ситуацию, а я ее решал. Никакой игры!
Все на грани жизни и смерти, на грани самоотречения и самолюбования, между
подвигом и подлостью... На четвертом "экзамене" надо было удержаться
от оглядки на смертельную опасность, которая приближалась со спины. Когда она
подошла вплотную, то левое ухо оглушил "пистолетный" сухой выстрел, а
в темноту передо мной метнулся ослепительно яркий белый кинжал неведомого
пламени. Девятый "экзамен" был на пределе слышимости...
-- Прощай! Ты радуешь нас! Мы
счастливы! Ты должен изменить себя, чтобы спасти всех! Прощай! Прощай!
Прощай!..
Все! Стало тихо и легко! Луч, растущий
ото лба, пропал, будто его и не было. Только сейчас я понял, как не
по-человечески устал и как хорошо быть... человеком. Я был опустошен и чист.
Любовь хотелось творить немедленно.
Часа через полтора в ушах вновь
появился шум, похожий на звук, какой слышишь во время полета в салоне
реактивного лайнера. ДОлго ждать не пришлось.
-- Ты слышишь наш голос! Ты слышишь
наш голос!
-- Но мы же попрощались! -- оформилась
было мысль...
-- Мы -- здесь! Ты подчиняешься нам!
По периметру крыши ты должен проложить медный провод, сделать спуск до своего
этажа, во время связи держать конец провода во рту...
Я готов был заплакать от невероятного
обмана, от досады, от глупости и своего легковерия! Я -- рехнулся! Пусть
странно, сохранив способность к самоанализу, но -- рехнулся! С "концом
провода во рту" -- в моей свихнутости не оставалось никакого сомнения.
-- Ха-ха! -- заржало небо, --
Испугался, спаситель мира? Обосрался, маленький? Ты в нашей власти. Смотри! --
Прямо перед собой, под ногами я увидел бутылку водки. Трудно, очень трудно было
сделать шаг, чтобы наступить на галлюцинацию. Наступил, смог. Не оставалось
больше никакого выхода -- только вступить в единоборство со своим безумием. И
больше не верить ни Богу, ни Дьяволу!
-- Ты не уйдешь! -- объявил садист. --
Ты в нашей власти! -- Сильно закололо сердце, мышцы рук и ног начали
конвульсивно сжиматься и разжиматься, мозг пронзила алая пылающая боль. -- Ты
слышишь наш голос...
Было поздно. К счастью, телевизор еще
показывал какую-то ерунду, я с наслаждением сделал звук погромче. Голос --
сволочь! -- автоматически заткнулся. Хоть ненадолго передышка... Увы,
проснулась жена.
-- Скотина! Выключи!
-- Я не могу...
-- Ох... что ли? Выключай! Я спать
хочу!
-- Я не могу сказать... Иначе все
мы... -- пот градом катил с меня от великого труда по преодолению небесного
запрета. Скажу -- всем крышка! Но -- надо сказать! Надо!
-- Я... голос... небо слышал...
психоз, наверное... -- меня корячило и ломало. Мышка испугалась.
-- Вправду, что ли, спятил?
-- Я должен спасти мир, но говорить об
этом нельзя, а то все мы умрем!!! -- выпалил я. Сразу стало легче. Никто не
умер.
-- Так ты за этим, жопа, по улицам
бегал? Скот-тина! -- она выключила телевизор.
-- Ты слышишь наш голос... ты слышишь
наш голос... сейчас раздастся стук в дверь, и вы будете зарезаны... не подходи
к двери! -- слушай шаги... слушай шаги... слушай шаги... -- меня обложили со
всех сторон. Голос не давал уснуть. Стращал, пугал, издевался, хохотал -- еще
чуть-чуть -- и он будет иметь надо мной безраздельную власть. Больше нет сил сопротивляться...
-- Милая! Хорошая моя! Прошу тебя!
Заклинаю! -- Проводи меня до телефона-автомата. Я не дойду один... Не дойду!
Что-то в ней дрогнуло. Мышка, неумело
матерясь, оделась.
Странно, наверное, было видеть со
стороны эту ночную парочку: маленькую сутулую женщину и рядом с ней
наклонившегося вперед, идущего, как против сильной бури, человека. Собственно,
я и не шел, я -- преодолевал.
-- Алло! Это скорая помощь?.. -- в
таксофоне что-то чикнуло, и он мертво замолчал.
-- Алло!.. -- такая же история со
вторым таксофоном.
"Чикнул" третий. Четвертый.
Я умирал от страха и отчаянья.
-- Ха-ха-ха! Ты не уйдешь! Ха-ха-ха!
-- Голос шел отовсюду.
Пятый!!!
-- Алло! Девушка! В-в-выз-зов
пр-римите-те п-пожалуйста! Слуховые галлюцинации... алкогольный психоз... Кто
вызывает? Я -- сам!!! Ск-к-корее, п-пожалуйста!
-- Приедут трое из КГБ! Они убьют
сначала ее, потом -- тебя! -- в интонациях Голоса я уловил истеричные нотки.
Приехали трое. В белых халатах.
-- Рассказывайте...
Корчась от ПРЕОДОЛЕНИЯ, обливаясь
потом, я сбивчиво в основных каких-то чертах рассказал о случившемся.
-- Ну, а характер бесед с голосом? --
спросил врач, старший группы.
-- Мания величия! -- ответил я
уверенно и с готовностью.
Врач и санитары понимающе
переглянулись.
-- Ест? -- спросил врач, обращаясь к
Мышке.
-- Жрет! Чего ни дашь -- все жрет!
Заберите вы его! На работу, сволочь, не ходит, дома не ночует!
-- Я спросил только, ест ли он, --
осек ее врач. -- Что вы от нас хотите? -- спросил он, обращаясь уже ко мне.
-- Усыпите меня! Сделайте какой-нибудь
укол! -- взмолился я.
-- Хорошо. Мы вас не заберем, хотя по
таким вызовам положено забирать. Сумеете обратиться в случае чего сами? Ну, вот
и хорошо. Ложитесь на живот.
Сделали укол. В ушах громко зашумел
работающий "примус" - ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш!!! Я провалился в сон.
Рано утром Мышка разбудила меня
пинками. Я посмотрел на нее и зачем-то представил вдруг в виде змеи... О, ужас!
Она начала превращаться в змею! Я сморгнул. Змея пропала -- Мышка осталась.
-- Ты слышишь наш голос! Ты слышишь
наш голос!..
Опять! Который? Хороший или плохой
Голос? И сколько вас всего, братцы? Ну вас на хрен! Хватит!!! Я заглотил горсть
"элениума" и решительно перешел на самостоятельное управление
"телегой" Судьбы.
3.
-- А сейчас слышите? -- спросил
психиатр.
-- Нет. Сейчас не слышу. Пропал голос.
-- Давно пропал?
-- Нет. Как только порог вашего
учреждения переступил -- так и пропал...
-- Понятно, понятно... --
многозначительно протянул психиатр. -- Были конфликты на работе на почве
алкоголя? Непонимание?
-- Были.
-- Понятно, понятно... Как вы
считаете, вы много пьете?
-- Много. Вторая стадия алкоголизма.
-- А самоубийством кончать не
пробовали?
-- Пробовал. Но психопатичность натуры
всегда искала зрителей, искала эффект, а не результат... Артист по натуре!
Точнее, игра стала натурой, -- прилежно передавал я Мишанины беседы.
-- Понятно, понятно... Вам нельзя
употреблять спиртное.
-- Я не буду, -- тут же сказал я и
улыбнулся.
-- Почему вы улыбаетесь? Все очень
печально!
-- Японская привычка! Надо улыбаться,
когда в доме покойник...
-- А. Понятно, понятно...
Из дурдома меня выкинули со свистом
через несколько дней.
В специальной справке, пришедшей в
Контору чуть погодя, было написано:"Наивен. Лжив. Социально адаптирован.
Быстро оценивает любую ситуацию. С целью уклонения от работы, симулировал
алкоголизм с последующим рецидивом -- алкогольным психозом".
-- Не обижайся, -- утешал Шура. -- Мы
все сумасшедшие!

С новым гадом!
Это прекрасное приветствие в духе
черного юмора было почерпнуто нами и взято на вооружение из передачи КВН. Был
Новый Год, и как было не повеселиться сообща! Заранее скидывались, покупали
продукты и спиртное; каждый дом посетило предпраздничное перемирие: жены не
ругались, мужья вели себя прилично и терпеливо. Нашли для сборища трехкомнатную
хату, которую и изукрасили всю плакатами и изречениями. Так, входящего в
прихожую встречала та самая надпись: "С Новым гадом!" Женщины были
нарядны, мужчины громкоголосы и суетливы, все беспощадно курили. В большой
комнате готовился стол, а в двух других комнатах поменьше получились
импровизированные "кулуары"; с кухни несло жареным-пареным, изредка
оттуда доносились матьки-восклицания: у плиты дежурила Махамоля. Неестественно
весело, как мне показалось, хлопала в ладоши, глядя на самодельный торт, Мышка:
"Ах, какая прелесть, девочки!"
-- Здорово, отцы! Привет матерям! --
ввалился в дверь возбужденный Кол. -- Разрешите представить: моя невеста! -- и
он подтолкнул вперед хрупкую девчушку, школьницу на вид. Мы тут же осклабились,
пытаясь сходу завоевать симпатию школьницы, но Кол стащил с нее шубейку, сцапал
за руку и не отпускал от себя ни на секунду.
-- Э-э-так, и-ить! Вмазать бы! -- вел
уже агитацию в кулуарах нетерпеливый Птиса. -- Ты все еще в завязке? --
обратился он ко мне.
-- Я не завязал -- я свое выпил... --
пробубнил я сто раз говоренную уже
фразу. Может, со страху, а может, от каких-то внутренних процессов, сместивших психику несколько
месяцев тому назад, так или иначе --
лопать больше не хотелось: одно воспоминание о вкусе "бормоты" вызывало желудочный
спазм. Кстати, трезвость принесла одно
прелюбопытное наблюдение: Мышка, лишившись постоянной "вожжи"
на меня -- возможности упрекать за попойки -- удесятерила свою агрессию.
Теперь, когда не было повода для ругани, она вспоминала первый пришедший на ум
повод из прошлого, а уж все остальное -- по известному сценарию. Именно тогда
до меня дошло, что, лишая бабу возможности казнить или миловать, ты лишаешь ее
всего...
Пришли Малый, Мишаня и Толик,
человек-цитата.
-- В тот вечер он не пил, не ел...
-- М-м-м!!! Запах!!! Похоже на труп
коровы, зажаренный в духовке...
-- Да уж. Не в морге.
Явился Заводской Друг. Принес мне
новогодний подарок. Индивидуально. Персонально. Самодельную финку с блестящим,
отливающим синевой лезвием, буковой деревянной ручкой и специальной канавкой на
лезвии -- для стока крови. Форму финка имела весьма хищную, а длину --
устрашающую.
-- На! Владей на здоровье! Настоящий
джигит должен иметь оружие! -- сказал Заводской Друг торжественно, протягивая
подарок и демонстрируя удобство вкладывания лезвия в клепаные кожаные ножны.
-- Ну-ка, ну-ка! -- протиснулся вперед
Ломов, как специалист. -- Хранительство холодного оружия... А из чего
деланность перышка?
-- Клапан тракторного двигателя.
Раскатанный, специально потом каленый... -- ударился Заводской Друг в подробное
описание технологии изготовления.
Взяла посмотреть финку в руки Мышка. У
меня что-то сжалось и похолодело в области солнечного сплетения. Ничего.
Повертела и отдала обратно, лишь прокомментировала:
-- Как раз для психа...
Компания подтягивалась, в прихожей
раздавались радостные вопли, звуки поцелуйных "чмоков", гора одежды
на вешалке прибавлялась и прибавлялась.
-- Здорово, секретарь-пердетарь! --
орала с кухни красномордая Махамоля, растопырив руки над фартуком.
Покрасневший, негодующий внутренне, Карасим стоял и терпел, пришедшая с ним
жена тоже не возмущалась.
-- При этом так ругался по латыни!..
-- процитировал Толик.
Шура сидел напротив Кола со школьницей
и щипал гитару, напевая что-то из романсов. Кол метал на свою малолетнюю
подругу горделивые взгляды: вот, мол, какие у меня разнообразные и талантливые
друзья! Точно такие же горделивые взгляды он метал и на нас: вот, мол, пеньки
вы старые, какая у меня есть девочка!
-- Выхожу-у-у один-н-н я на
дор-р-рогу... -- старался Шура.
Организация стола настраивала на
возвышенный лад. Это вам не плавленый сырок на пятерых за углом! Это -- стол!
Настоящий обряд, праздник по-человечески. Не ради выпивки, конечно, -- ради нас
самих, ради того, что все мы живые и готовы понять друг друга... Великое дело
-- общая доброжелательная атмосфера! Даже Мышка пыталась шутить и улыбаться,
почему-то ассоциируясь у меня в воображении со смеющимся... черепом.
-- Я встрети-ил ва-а-ас, и все
былое... -- не унимался Шура, коротая время до первого тоста, попутно, как
змей, пытаясь проникнуть на песенной волне в душу "прекрасной
незнакомки".
-- Оставь девку, кобелино-дерматино!
-- крикнула Махамоля. Школьница потупила глазки. Кол увеличил интенсивность
поглаживания маленькой ручки.
На кухне Ломов понюхал Махамолю.
-- Ты где успела уже? -- зловеще тихо
молвил Ломов.
-- Не твоя забота. Пш-шел! -- и она
по-хоккейному бортанула его бедром, отстраняя от себя. Ломов покатал желваками
и удалился в кулуар.
-- Закрой-ка дверь. Подержи. Знал
ведь, что фортель выкинет!
-- Да брось ты! Жалко тебе, что ли! --
пытались мы угомонить ломовское возмущение.
-- ...уже невеста брагу пьет тайком...
-- добавил огонька Толик.
Малый вжикнул замком спортивной сумки:
-- Желаю помочь ближнему! -- из сумки
извлеклись две бутылки водки, неожиданные и неучтенные, а потому вдвойне
радостные. Птиса незаметно сгонял за стаканчиком, вытащил из кармана луковку. В
соседнем "кулуаре" пели.
-- Надо бы позвать... -- сказал Малый
неопределенно.
-- Засветимся! -- отрезал Птиса.
-- Не надо мешать естественному
отбору, -- сказал Мишаня. -- Не видишь? Кол на нерест пошел!
Вмазали стоя, приговаривая шепотом,
заговорщически: "Ну, с праздничком!" -- и глотали, морщась, торопливо
хрумкая кусочек луковки.
-- Благородно? -- спросил сам себя
Мишаня перед тем, как выпить. И, выпив, заметил успокоенно: -- Благородно.
Карасим исполнял поручения женщин:
протирал бокалы, расставлял на столе горшки с салатами, звенел вилками; среди
сложной архитектуры праздничного стола уже высились святые минареты
откупоренных бутылок. Кроме сухого, "бормоты" и водки, имелись в
наличии две бутылки "Шампанского" и один коньяк.
Я не чувствовал комплекса
превосходства, который порой возникает у непьющих людей, попавших в пьяную
среду. В общем, я искренне радовался, что моим друзьям хорошо. Опасался лишь:
как бы не захорошели лишнего. Потому что
за несколько трезвых месяцев я уже
приобрел некоторый неприятный опыт вращения в "поддатой"
компании: если это малознакомая компания
-- на тебя, непьющего, смотрят как на
стукача, если своя -- будешь заботливо обслуживать пьянку,
проклиная собственную глупость.
Между прочим, тот, ради которого Малый
предложил "разминку", -- Ломов -- пить тоже отказался:
-- Желаю с трезвых шар взглянуть на ее
мерзопакостную харю! -- непререкаемо объяснил он причину.
Птиса на разминке постарался больше
других.
Мы с Заводским Другом стояли у окна и
намечали туристские маршруты на лето. Заводской Друг дышал мне в лицо свежим
спиртовым "выхлопом". Я терпел. На ремне у меня болталась
прицепленная финка.
-- Садимся! Садимся!
-- Хорош му-му долбать!
-- Садимся!
-- Ситдаун, плиз!
Призывы -- цепная реакция общего сбора
-- донеслись до поющего кулуара, из коридора, из кухни.
-- Э-и-ть! -- заблестел глазами Птиса.
-- Сядешь рядом! -- шепнула Мышка и
под руку потащила меня за стол. От Мышки тоже попахивало. Коньячком. Боже! Я
был мал когда-то, и мать открывала мне мир в своих рассказах. Потом он стал
открываться великим миром книг. Мир открывался мне в друзьях и женщинах, в
преступлениях и наказаниях... Боже! Теперь он открывается для меня -- в
запахах! В отличие от Ломова, я принюхивался молча.
Расселись. На стульях, на гладильной
доске, положенной на табуретки, на двух креслах, на каких-то домашних ящиках.
Распорядителем стола оказалась Махамоля. Дождавшись относительной тишины, она
спросила общего совета:
-- Горячее пока на хер?
-- Потом! Потом! -- загалдел стол. И
только школьница косилась на Кола, подрагивая ноздрями, как нервная породистая
лошадка.
-- Сидели пили вразнобой... -- вставил
было Толик.
-- Товарищи! -- поднялся над столом
Карасим. -- Товарищи! Вы меня извините, я волнуюсь, но вот так, все вместе мы
собрались впервые. Это здорово! Это очень здорово! КАк-то странно получается...
Живем в одно время, одной жизнью, а друг друга все равно знаем плохо...
Извините, если задерживаю ваше внимание... Прошу всех налить! Всех! -- он в
упор требовательно посмотрел на меня, потом на Ломова. -- Я хочу выпить за нашу
замечательную жизнь, за то, что мы можем вот так собраться, что сейчас не
война, что мы все можем решить... С Новым годом!
Выпили. Забрякали ножами, вилками,
ложками. Зачавкали, закряхтели, нахваливая обильную еду.
-- Ну что бы мы без вас делали, милые
вы наши женщины! -- поднял рюмку Шура, гипнотически-неотрывно глядя на спутницу
Кола.
Ломов забыл о своем желании "с
трезвых шар взглянуть на ее мерзопакостную харю" и поливал внутрь без
остановки. Передо мной красовалась полнехонькая рюмка, нетронутая, как рюмка
усопшего на поминках. Мышка приставала:
-- Выпей! Ну, чего ты! Выпей... Мне
будет приятно. Я -- разрешаю, -- может, раньше я и поддался бы на провокацию,
но сейчас было все равно. В том смысле, что провокации Мышки -- не действовали.
-- Ломик! Выпей со мной! Ты же меня
любишь! -- Мышка переключилась на более интересный объект. -- Ой! Дай я тебя
поцелую! Я -- без помады. -- Мышка прислонилась к Ломову.
Махамоля перестала моргать.
-- Уйди. Не лапай, не твое!
-- Твое ли чо ли? -- спросил Ломов у
жены с вызовом. Махамоля почуяла угрозу, запричитала.
-- Это я -- твоя! Я для тебя в клочки
разорвусь! Кому хочешь сику выдеру!
-- Выдери Шуре, -- попросил Ломов.
Застолье входило в стадию бозара.
Возникали и гасли очаги разговоров, вспыхивали и улетали в никуда из этих
очагов искры любви и искры мгновенных обид.
-- У вина достоинства, говорят,
целебные! -- поднимал бокал Толик.
Школьница окунала аккуратный язычок в
рюмку с коньяком. К ней и Колу подсел Малый.
-- За баб-с! -- сказал Малый и выпил
залпом. -- Разрешите, мадам? -- Завели музыку, на елке мигали две разноцветные
гирлянды огоньков, призрачно светил в полумраке экран обеззвученного
телевизора. Малый пригласил даму на танец. Кола затрясло от негодования, когда
дама согласилась.
Карасим танцевал с женой. Мишаня щупал
пульс у Махамоли и что-то выговаривал ей, грозя при этом пальчиком. Шура забрал
Мышку. Заводской Друг срочно наводил порядок на столе. Он во всем любил порядок
и организацию: будь то пьянка или социалистическое соревнование. Ломов начал
клевать фейсом об тейбол -- мордой об стол, носом в салат. Куда-то незаметно
пропал Птиса. Веселье шло своим известным чередом. Я почувствовал себя лишним.
-- Кол, не дергайся, все нормально, --
сказал я, подсаживаясь.
-- Баб ненавижу! -- прошипел Кол. --
Еще в соплях ходит, а уже б... Ненавижу!
Я налил ему в большой фужер смесь
сухого и коньяка. Кол решительно отвел мою руку: -- Сегодня нельзя! -- Видимо,
он намекал на свои добровольно-пастушеские обязанности перед юной особой.
Нашелся Птиса. Он уснул на унитазе со
спущенными штанами. На защелку он, разумеется, не заперся. Так что, когда тихая
жена Карасима сунулась в клозетный бокс по естественной нужде, она обнаружила
зрелище. Тихонько ойкнув, она призвала на помощь Махамолю.
-- Скотина такая! -- подняла пинками
Птису Махамоля в праведном гневе. Птиса отполз в кулуар и мгновенно захрапел.
Пришло время горячего. Махамоля,
покачиваясь, с подносом в руках, внесла груду дымящегося мяса:
-- Не пожрешь -- не посерешь! -- лихо
пошутила Махамоля.
-- Я бы попросил! -- возник Карасим,
но продолжить "просьбу" не успел. Ломов схватил бокал Кола и запустил
им что есть силы в жену. Бокал трахнулся о стену и потек. Махамоля присела,
выронила поднос с мясом, непередаваемо заматерилась.
-- Долго ты еще нас всякой херней
мучить будешь! Никакого ведь терпетельства нет! -- заорал Ломов, но что-то
внутри у него тут же лопнуло, сломалось, он сел, выпил две рюмки подряд, и из
глаз у него покатились слезы. Махамоля на выпад не ответила. Достойно собрала с
пола рассыпанное мясо и швырнула поднос на стол, разбив при этом часть
стеклянной посуды.
За несколько минут Ломов скис. Его
отнесли в тот же кулуар, где храпел Птиса, и положили рядом.
-- Спите спокойно, товарищи, --
произнес над ними Мишаня.
Малый напился сам и напоил школьницу.
Девочка освободилась от застенчивости и, пока Кол в бешенстве курил, пуская в
форточку паровозные струи, молодые нашли друг друга окончательно и вовсю
целовались на кухне при выключенном свете. Кол докурил, подошел ко мне, ледяным
тоном предупредил:
-- Не вмешивайся. Убью.
После этого он разорвал на девочке
платье, а Малому навесил так, что тот перестал шевелиться. Визжала жена
Карасима:
-- Уйдем домой! Я не могу больше!
А-а-а!
Карасим, выпив, проявлял олимпийское
спокойствие знатока:
-- Ничего. Потерпи. Ребята
разберутся...
Мишаня пощупал у Малого пульс и
волоком оттащил его туда же, где спали двое "готовеньких".
С криком: "Мандец на
холодец!" бросилась царапать лицо Колу Махамоля, обиженная за весь женский
род. Девочка упала в обморок. Кол сбегал, набрал полный рот сухешника и прыснул
бедняжке в побледневшее лицо. Она ожила, застонала, скривила капризные губки.
Кол мрачно оделся, одел школьницу, вытолкнул ее вон, повернулся, смачно плюнул
на пороге под ноги провожающим -- и хлопнул дверью. В Москве били куранты.
Начинался новый год. Горели старые грехи, зарождались новые надежды.
-- Гулять будем! Мандеть... -- кричала
Махамоля, пытаясь напоить прямо из горлышка бутылки телеголову обаятельно
диктора Центрального телевидения. Вино, выливаясь, текло по экрану, оставляя
след: на полу под телевизором образовалась лужа.
-- Иди ко мне! -- позвал Махамолю
Шура.
Она бросилась к нему на шею, жалуясь в
пьяной истерике на невыносимую жизнь с
Ломовым.
-- Никто кроме меня тебя не поймет, --
приговаривал Шура. -- Никто... никто... -- Махамоля оказалась четвертой в ряду
спящих в кулуаре.
Карасим сидел с женой на полу, под
елкой. Прямо перед ними находилась широкая винная лужа и телевизор. Карасим
стрекотал скороговоркой:
-- Жизнь -- это грязь. Не надо
закрывать глаза! Надо быть всем вместе, держаться друг за друга -- это и есть
настоящая любовь!..
Монолог подслушал Шура, тут же ляпнул
свое любимое:
-- Духовное...
-- ...не подвержено алкоголю! Да. Да!
Я это сегодня понял! -- горячо и серьезно продолжил-подхватил Карасим.
-- Налейте мне, пожалуйста, водки, --
попросила жена Карасима.
Во втором, дальнем "кулуаре"
Заводской Друг обнимался с Мышкой. Об этом факте доложил Мишаня. Но, в отличие
от Кола, я предупредил всех еще прямоходящих в этой ночи -- чтобы им не мешали.
Обиды я не чувствовал. Просто был лишний. В хаотичных столкновениях-разлетах
мир продолжал искать себя, продолжал искать те неведомые волшебные слова,
которые подарят вдруг формулу счастья. Не на век, так хоть на миг...
-- Сыт я до горла, до подбородка! --
радовался всему происходящему Толик. Любое проявление нашей жизни он тут же
вставлял, как готовую картину в готовую рамку, в очередную готовую цитату. И
любая цитата годилась для нашей жизни... Все было! Все уже было! Не было только
нас... Но и это -- было!
Шура взял гитару.
-- Встава-ай, проклятьем
заклейменный... -- хором исполнили "Интернационал", вспомнили, на
удивление себе, почти все слова гимна пролетариев. Заголосили еще громче:
-- Вихри враждебные веют над нами!..
Присоединились, выйдя из комнаты,
Мышка и Заводской Друг. Спели очень душевно все вместе "Эх,
дороги...", "Там вдали за рекой", "Ой, цветет калина",
что-то из Есенина. Мышка прижалась ко мне покаянно.
-- Не сердись. Я тебе отомстить
хотела... Я... беременная! Не говори ничего! Буду рожать!
-- "Зачем вы, девушки, красивых
любите?.." -- старательно выводили
певцы. Когда они затихали, было слышно, как поют за стеной соседи, как через открытую форточку залетает в
комнату песня с чужой гулянки. Мне стало
противно. Будто и в самом деле мир терпел целый год, чтобы сегодня, в одну ночь, компенсировать это
терпение обманом поющей, короткой, как
цветение кактуса, радости. Будто цвели этой ночью колючие серые будни...
Я осторожно встал, чтобы не нарушить
поющей идиллии, на цыпочках вышел в ванную комнату и закрылся изнутри. Потом
достал подаренный нож и полоснул по запястью. Ударили фонтанчики крови, забрызгали
сразу же раковину и какую-то умывальную мелочь. Мышцы в месте пореза свело и
сильно защипало. Все очень спокойно. Обыденно. Без всяких зрителей. Оставалось
теперь только подождать. В голове вертелась одна и та же забавная фраза:
"Смысл жизни -- достойная смерть". То, что не смог сделать по пьянке,
я сделал в здравом уме... В здравом? Не важно. Теперь -- не важно... Я
улыбался, разглядывая свою улыбку в зеркале над раковиной. Черт! Зритель был! Я
-- сам. Зашумело в ушах -- тот же звук работающего примуса. Застукало в ушах,
затрепыхалось, испугавшись, сердце. Я забрался в ванную, лег, расслабившись.
Начинались галлюцинации.
-- Здравствуй! -- близко возникло
сухонькое восковое личико Святой Августины. -- Молчи! Твое дело -- молчать! Вот
сейчас я прикоснусь к тебе и...
Мишаня сорвал защелку. Моментально
перетянул запястье поясом от женского халата, полил самоубийцу холодной водой
для очухивания и стал журить:
-- Ну не так же это делают! Надо
резать у локтя, на сгибе, там вен больше и ток крови поприличнее. Мог бы и
проконсультироваться для начала. -- Я от слабости и безразличия молчал. --
Неладное, кстати, Мышка почувствовала, скажи ей спасибо.
В ванную зашла Мышка, брезгливо
оглядела кровяной бардак, губы ее зазмеились от отвращения. Все вставало на свои
места.
-- Говно! Сдохнуть-то и то не
получается! -- процедила Мышка.
-- Синдром Кандинского, -- сказал
Мишаня, показывая меня как подопытного кролика, -- исследование пределов жизни
с помощью методов того света. Благородно!
-- А всем нам хочется не умереть, а
именно -- уснуть! -- заверил меня Толик. Ему с большим трудом удавалось
удерживать на лице серьезное выражение.
Меня вытащили и усадили, мокрого, в
кресло.
-- Выпить хочешь? -- сочувственно
спросил кто-то.
Я спал. Скоро в окна должен был заглянуть
первый рассвет нового года

Впереди у нас была долгая жизнь. Очень
долгая жизнь! Она всегда была у нас -- впереди. Она и сейчас там же.
***
Эпилог
Кол женился на школьнице. При этом он
окончательно обособился, оторвался от компании и гостей у себя не принимал.
-- Единственное, что тебя может спасти
-- это безостановочное клепательство детей! -- сказал Колу Ломов. -- Больше
ничем ты молодую бабу не удержишь.
Кол увез свою избранницу в сибирскую
глушь и там стал для нее самым умным, самым добрым и самым красивым. Потому что
он всегда хотел быть -- самым!
Я развелся с Мышкой вскоре после того,
как родился второй ребенок.
Ломов развелся с Махамолей, которая,
как ни странно, не стала
поломойкой в бане.
Птиса год проходил в кандидатах в
члены КПСС. Выйдя в очередной раз из вытрезвителя, он прямиком направился на
собрание, где и был принят в передовые ряды.
-- Э-ить! Есть одна загадочка, --
любил говаривать Птиса, с удовольствием оглядываясь на прожитое. -- Ведь по
большому-то счету никто не спился! А?!
Малый закончил институт и надел на
себя погоны профессионала-военного.
Толик так и остался седым ребенком.
Мишаня стал анестезиологом и чуть не
погиб от прямого доступа к спиртовой синекуре.
Шура протрезвел. Больше мы никогда не
слышали знаменитое его: "Духовное не подвержено алкоголю!" Порой лишь
он говорил очень грустно: "У нас нет будущего, потому что мы обречены
расплачиваться за прошлое..."

Вот и все.
Можно написать слово
КОНЕЦ
Только какой же это "конец",
когда все едва лишь начинается?!
-- Папа! Ты когда к нам придешь? --
звонит в Контору моя дочь.
-- Не знаю... Ты же сама понимаешь,
как я занят!..
1985 г.