ЛЕВ
РОДНОВ
опубликовано в
лит. журнале СП «День и Ночь» в 2004 г.
рисунки: Silvain TESSON
ПАРИЖСКИЕ
МАТАНЕЧКИ
(роман
с прононсом)
Оксане,
жене моей, посвящаю (посвящение «до»)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Действующие
лица:
земляки —
земляки;
французы —
французы;
в
эпизодах — эпизоды;
от
автора — автор
Они пригласили меня посетить Париж.
Они не были против.
Самолет компании “Air-France”
приближался к аэропорту Шарля де Голля. За сутки до моего появления здесь, в
здании аэровокзала, рухнула крыша.
В полете французы, тяпнув дармового
винца, танцевали в салоне, бродили кто куда хотел, а когда шасси коснулись
бетонной дорожки в конце — дружно зааплодировали. Жизнь для
французов — спектакль.
Первое, что я почувствовал на чужой
земле — вернуться! немедленно и без сожалений вернуться! Русское племя, к
которому принадлежу и я, навязчиво и давно сравнивалось в моем представлении с
насекомыми. Живучими, неприхотливыми, размножающимися где угодно и на чем
угодно. Но что хуже всего — насекомые не поддаются дрессировке. Они бесстрашны,
бесцеремонны и необучаемы.
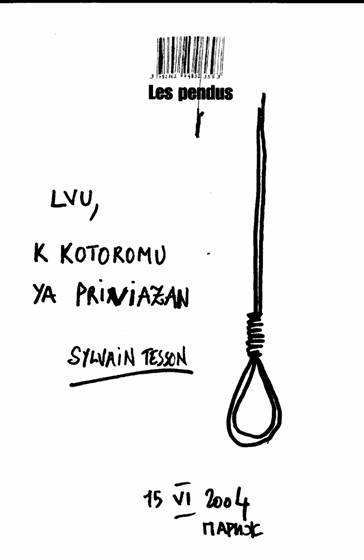
Такой пессимизм в самом начале.
Начинать разочарованием выгоднее и
полезнее, чем наоборот. Это не заниженная самооценка себя или нации, это,
скорее, констатация конца. Любое продолжение темы после этого — тоскливые
разговоры о предназначении, надежде и Боге — овеществление тоски. Жизнь после
смерти бессмысленна.
…Негр в окошечке паспортно-визового
терминала, не канителясь и почти не глядя, шлепнул в загранпаспорт штамп и
открыл турникет. Всё. Я во Франции. Без восклицательного знака. Просто точка.
И, кстати, где мой чемоданчик, багажик мой где? На транспортной ленте он
крутился, никем не охраняемый и не выдаваемый в соответствии с биркой. Подходи,
кто хочешь, и бери. Ну, я и взял. Свое собственное. И все остальные так же
взяли.
Люди здесь контролируют себя.
Всё очень дорого. Хорошо, что это
всего лишь сон.
Автор сна — мой старый друг,
парижанка с десятилетним стажем, актриса, певица. Человек, ставший человеком в
одиночку и на чужой земле. Пластический подвиг. Лингвистическая небылица: Совершенная думает (думает!) на нескольких
языках сразу, в зависимости от задачи: какие именно чувство или мысль требуется
выразить. На русском, например, нет слов и определений для многих состояний
совместной утонченности. Не предусмотрено.
Словно и впрямь борюсь с неодолимым
сном. А вдруг будут сновидения, течение которых нам не подвластно? Не спать! Не
спать! Но глаза уже закрылись, уже сделался я беспомощным в чужом мире, уже
поплыли, как в кино, монтажные сцены, синхроны и паузы, крупный план и средний;
темно вокруг, кроме экрана. Но увы, не я киномеханик, и экран — не моя
стихия. Я где-то между. То ли стул в зале, то ли тень от него.
Ладно, пора осмотреться. Центр Парижа,
маленькая комнатка, очень уютная, на втором этаже. Будто бы вижу, будто бы
вижу… Так всегда говорят, когда сон рассказывают, чтобы легко и сразу
объяснялись нелепицы и небывальщина. Имена и даты во сне не важны: будто бы
ведь всё! Узкие улочки, мостовая из небольших гранитных камешков, негры, велосипедисты,
вежливость и… желание проснуться: немедленно, в привычном своем углу с
крошками, паутиной и темной сыростью. Насекомые боятся света. Ах, какой яркий
сон!!! Будто бы, всё вокруг — будто бы…
— Я приготовила вермишель с
помидорами! — празднуем встречу во сне. Совершенная выступает в главной
роли.
Будто бы появляются у меня ключи от
квартиры, проездной на метро и автобус, будто бы надеваю я на себя чужую
футболку, немо улыбаюсь и раздаю сувениры. Во сне всё можно, поэтому хорошо,
если наяву ты успел научиться кое-каким “нельзя”. Сон от этого только
выигрывает.
Будто бы ведут меня, уставшего и
хмурого, в ночь, в театр с прожекторами и балконами, на джаз-сейшн. И там
играют. И очень хорошо. Но я мыслю не музыкой, я мыслю словами. Русскими
словами. Заклинаниями, которые ведут к действию. Здесь нет заклинаний, здесь
всё — действие. Везет же людям: музыка не нуждается в переводчиках. А я
нуждаюсь.
Будто бы жвачка прилипла к зубам,
будто бы надо всё время помнить о присутствии собственного вида и отсутствии
личного запаха.
Господи! На часах по-нашему уже четыре
утра. Французы аплодируют джазу. Наконец-то! Скоро я приземлюсь на матрац,
постеленный на полу, рядом с кроватью “приглашающей стороны”.
Будто бы я еще успею сказать,
извиняясь наперед:
— Знаешь, я иногда храплю.
А она ответит:
— Ничего, мой тоже храпит.
Будто бы мы успеем позвонить домой, и
Родина растерянно сообщит: “Была у нас гроза. Вся аппаратура сгорела”.
— Ничего, — скажу я.
Всё нормально.
Уснуть во сне еще разочек — не
лучшая примета. Я и уснул. Будто бы, конечно.
Утром хозяйка сообщила:
— Ты храпел всего полчаса.
Это порадовало. Прогресс несомненный.
Она уходит жить к друзьям, к другу, он какой-то известный писатель, Француз,
пьющий по-русски, потому что любит Россию и путешествует по ней велосипедом. В
общем, брат, как мне почудилось вдруг.
Сон — вдруг! вдруг! —
автобус № 68, Лувр из окна — мимо, Версаль из окна —
мимо…, — вдруг, вдруг: мансарда, винтовая лестница на чердак, стертые деревянные
ступени, деревянные балки, источенные короедами в XVI веке, — вдруг!
вдруг! — хозяйка мансарды Стефания да болгарская актриса, говорящая на
французском. Черт побери! Вам когда-нибудь снились сны с непонятным языком?
Надо отдаться обстоятельствам, чтобы стать невидимкой; участвовать не можешь,
наблюдать — пожалуйста.
Наблюдаю. Репетиция какой-то
миниатюры. Девушки играют замечательно, отрабатывают нюансы, работают. Вот и я
увлекся, стал соучаствовать, подал реплику… Что-то невидимое рухнуло! Будто
привидение материализовалось. Совершенная шепчет украдкой и ехидно:
— У этой пьесы уже есть постановщик.
Ладно. Как на бетонной полосе: в
ладоши хлопать можно, за штурвал хвататься — преступление.
Стефания молчит, хотя заметно, что
репетиция ранена, полет и впрямь рухнул, остались: работа, профессионализм,
выдержка. Работают дальше, постепенно набирают разгон, входят в прежний кураж,
но… уже в соседнем помещении. Нетонкой моей натуре предложено пить чай с
женьшенем.
У кого-то есть ангел-хранитель, у меня —
ангел-воспитатель.
— Еще ни один русский не удержался от
желания посоветовать!
Законы сна особенные: рот на замке, а
видишь и с закрытыми глазами, а слышишь и в тишине. М-да… Насчет слышишь
ошибочка вышла. Взаимонеприятный урок: самостоятельная жизнь от непрошенного
соучастия морщится. А где-то это самое “соучастие” заместо тверди. Где-то я эти
места уже видел, вот только вспомнить не могу; память во сне отшибает сильно.
Стефания подарила тетрадку, чтобы я с
бумагой по-своему разговаривал. Три часа наедине с авторучкой пролетели, как
миг!
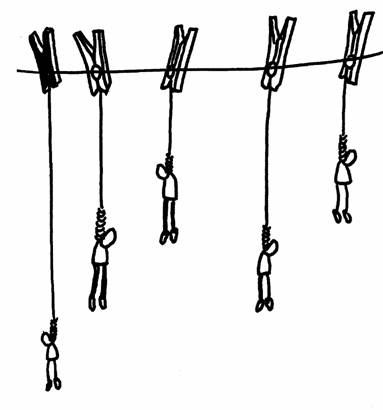
Вечером зашел за мной Француз.
Чуть-чуть говорит по-русски. Научился во время последнего своего пешего
путешествия от Якутска до берегов Индийского океана. Француз повторил путь
одного беглеца: от сталинских лагерей до буддийского храма в Тибете.
Француз тоже выясняет свои отношения
со смертью. В последней его малоформатной книжице три страницы текста и сто
три — рисунки: вариации на тему повешенных. Например: край
яйцеклетки — дуга в углу страницы, а к ней со всех сторон стремятся
петельки-сперматозоиды. Или еще: висельник-снеговик, петля на месте, а от
клиента остались шляпа лишь да нос-морковка. Растаял, обвел Косую на ее же лад!
Когда талантливый человек шутит мрачно, то глубина шуток получается страшенная,
бездна. Ну, как небо, только ночью и без звезд.
Вечером Француз показал в Парижском
Географическом Обществе фильм о своем путешествии. Профессура хлопала стоя,
воздавая должное автору, не утонувшему в Сибирских болотах, не сорвавшемуся с
немыслимых скал, не погибшему в монгольской пустыне.
Говорил Француз перед аудиторией
блестяще, можно было не знать языка, а просто смотреть на лица двух сотен
слушателей, избранной парижской публики. Он реконструировал подвиг советского
зека, повторил его путь на земле. А в чем твоя-то “зона”, Француз? Почему и
куда ты торопишься?
Была настоящая овация. Он ведь залез,
загнал себя в петлю смертельного риска и сам же из нее вылез. Содержания и
новизны в мире не прибавилось. Но что-то произошло. Французы умеют гордиться достижениями
другого, как своими собственными. Гордость — цемент, делающий человеческие
песчинки нации монолитом. Кто-то же должен вырабатывать эту “связку”?! Не в
прошлом времени, как в России, которая умеет гордиться лишь мертвыми, а здесь и
сейчас: влез и вылез, взлетел и сел, закрыл глаза и вновь их открыл… Вещи
отражают свет, и этот свет играет во мне отражением сути вещей.
Француз, возбужденный, пошел
празднично ужинать в честь победившей жизни, а я заблудился в Париже, впервые
оставшийся без провожатых. “Экскьюз ми! Хелп плиз!” — обращался я не раз к
словоохотливым и доброжелательным прохожим и произносил название своей станции:
“Блёанж!” — так, словно мне только что перебили переносицу. Впрочем,
больше вербального контакта помогал жест — я тыкал в карту метро, в
заранее обозначенную точку и по-русски уверенно произносил: “Здесь!”
Вечер. Мой дом в трех минутах ходьбы
от “Мулен Руж”. Крылья ее сияющей огнями мельницы вертятся с неутомимостью
человеческой страсти. Со всех сторон на улице Пигаль кричат неоновые надписи:
“SEX”. Приложив руку с обручальным кольцом к груди, как чудотворную мощь, смело
иду сквозь строй зазывал. Иногда зазывалы привязываются, но тут же тают в моем
сегодняшнем сне. Окольцованные мощи действуют хорошо. Проститутки вянут.
Тротуар около подъезда в моче. Даже
полегчало от этого! Кошмарные сны, в общем-то, у всех людей на планете
одинаковые. Границы тут ни при чем.
Кроме тетрадочки у меня за сегодняшний
день появился еще и блокнотик, куда велено записывать все расходы, к евре евру,
не для того, чтобы считать и рассчитываться с друзьями (они накупили мне
сегодня продуктов), а чтобы “знать”. Школьная задача: в один карман втекает, из
другого вытекает. Реши: какой карман победит? Я-то результат заранее знаю, еще
в детстве заглянул в “ответ”, а они всё решают тут, решают… Наши люди руки из
карманов достают — две дули, они достанут — эти самые ручки целуют.
У каждого ведь свой круг в жизни
бывает. Очень надежная геометрическая фигура. И экономная. И непостижимая, не
вычисляемая до конца, до самого последнего знака. Так что, если круг своей
жизни разорвать, то запросто в итоге может петелька получиться.
Совершенство улучшать нельзя. Не
дается оно. Умрет, а не дастся! Даже к репетиции не допустит, не то что к
соучастию.
Круги жизни в Париже очень старые, и
поэтому берегут их осознанно, а новые рисуют очень осторожно. Лучше на стороне
где-нибудь, в Сибири или в Монголии экспериментировать!
Скучаю по своим, хоть и в дреме. Пора
звонить домой, у них там как раз два часа ночи. А вот и последние новости из
дома: опять был славный ураган, сломало деревья, снесло крыши, дочь поставила
бабушке подножку, бабушка упала на камни и ходит теперь с синяком в пол-лица.
Стихия — наш путеводный маяк!
В представлении западного человека русские
не моются. В принципе. Жить без жидкого не могут, но сами не моются. Не в
традиции. Вечно я чувствовал себя маленьким Буратино, жизнь которому осложняют
те, кто знает, как жить правильно. Мальвина, уходя, отдала приказ:
— Вот пакет, футболки бросай туда
каждый день. Раз в неделю будем ходить в прачечную, на углу. И носки.
— Каждый день?! — ахнул гость не
своим голосом.
Ответ был категоричен:
— Запахов быть не должно.
Ах, если бы Буратино умел плакать
по-настоящему! Увы, увы. Он — выдумка себя самого внутри чьей-то другой,
превосходящей выдумки. Мир управляется представлениями о нем. Сказочник
сказочника кушает.
Володя Т., мой друг, философ и йог,
дал мне два телефона Княгини: “Позвони. Скажи, что из Ижевска приехал. Она
считает, что этот город имеет особое значение в период энергетических и
социальных мутаций на нашей планете”.
Я позвонил. Парижский телефон вещал
голосом автоответчика, а загородный — голосом Княгини:
— О! К сожалению, я сейчас очень
далеко. О, как жаль. Очень, очень далеко! На море. И приеду лишь к сентябрю.
До моря от Парижа 1000 километров.
Тоже мне, “далеко”! Велосипедная дистанция.
Я написал Княгине письмо.

Ностальгии по оставленной Родине нет.
Есть тоска — печаль по оставленной на растерзание ураганам семье.
Семья — моя Родина. Другой, я думаю, и не бывает. Если, конечно, не
навяжут мозгам и сердцу чужого, дурного сна! О каком-нибудь всеобщем счастье
или тому подобное. Семейные узы в отдалении чувствуются резче. Это тоже
счастье. Очень контрастное счастье. Разлукой нельзя питаться, но она,
присутствуя в общей тарелке жизни, делает похлебку бытия острой, как пряность.
Животные не умеют наслаждаться разлукой. Человек умеет. Это и есть гравитация
жизни, наполняющая пустоту связями и порядком.
Итак. Я просто не могу, как говорится,
не написать эту фразу. Окна моей комнаты выходят на малюсенький внутренний
дворик, посреди которого существует бетонный надолб — вентиляционное
сооружение, покрытое искусственным зеленым ворсом. А-ля клумба, зеленая клумба,
радующая глаз. Правда, ненастоящая; специальный парень-дизайнер укутывает
синтетическую красоту полиэтиленом. Понарошку живется легко!
На оставшемся, прилегающем к клумбе
асфальте, по утрам выгуливаются различные домашние животные: коты, собаки и
даже один скунс. Натуральной земли нет вообще. Какают вразнобой прямо на
асфальт, люди убирают. Площадь прогулочного полигона — пять или шесть
квадратных метров, по-сути, ухоженное, окультуренное дно, образованное
шестиэтажным жилым колодцем.
Я думаю, именно теснота подвигает
людей искать способы культурного развития. Одних она подвигает к
самоистреблению, как в России (это с ее-то просторами! и, тем не менее, с ее
жилищной теснотой и убогостью тоже), других — к безопасным формам
общежития.
Трудные внешние условия заставляют
обращаться к внутренней широте натуры.
Возможно, этот вектор бытия объединяет
французов и русских. А человеческий лай на русском дворе и отсутствие лая на
пятиметровом французском пятачке — бесконечно разнят. Дистанция отличия
огромна, как если бы сравнить млекопитающее и насекомое.
Теснота тестирует на толерантность. И
этот тест нельзя пройти лишь однажды, как выпускной экзамен в средней школе. Он
присутствует всюду, ежечасно, ежемгновенно.
“Бонжу-ур! Бонжу-ур, мсье!” —
твердят французы друг другу и иностранцам, как охранное заклятие. И улыбаются,
светятся насквозь неподдельными улыбками и приветливостью. Французы —
нация верующая: в любовь, свободу, веселую и опасную игру в жизнь.
— Бонжу-ур!!!
Ну, вроде нашего: “Господи, спаси и помилуй!”.
Только вместо слез и соплей непрерывная радость. Я понял, почему в аэропорту я
захотел развернуться и бежать без оглядки: массовый оптимизм опасен.
Кстати, именно сегодня во время
умывания пришла в голову мысль назвать эти записки “Парижскими матанечками”.
Пластинка с таким необычным словом
имелась у моих родителей. Графитовая, очень хрупкая; возьмешь ее в руки —
тоскливо и страшно: а вдруг упадет, не удержится в руках? Не вернуть тогда уж.
“Матанечки” было написано на круглой наклейке свекольного цвета. То есть
страдания, исполненные на русский лад, художественным образом. Грустные
частушки. Родители слушали, им нравилось. Давно упала та пластинка, разбилась.
А я вот теперь новую завожу. Авось, хоть эта не разобьется. Дочка подрастет,
послушает да и свою какую-нибудь матанечку затянет.
Эх, как прибывать (от слова “прибыль”)
в себе самом радостью, когда приучен был с малолетства прибывать печалью?
Сколько зайца ни корми оптимизмом, а зубы хищников щелкают. Озабоченный
“смыслом”, мучается среди беспечных. Это я вам как заяц говорю! Ну ничего,
вернусь домой, отдышусь, отдохну среди бесконечной, а теперь еще и бессовестной
нашей бессмыслицы. Вот где простор-то для поисков! Пошел за жизнью —
смерть нашел, пошел за смертью — вроде как вечным сделался. Огромная
петелька, русский соблазн.
Французы это тоже понимают. Они
литературны, как и мы, в своей основе, живут от выдумки. Их сон, конечно,
старше нашего, вот я и волнуюсь, уснувший дважды. Наш сон всегда “в руку”, но
чтобы “сон в сон” — это нонсенс!
Хожу в хирургической чистоте, носки
можно использовать в качестве стерильного материала. Хотя на улице — и
попрошайки, и мусор валяется. Пыли, правда, нет почему-то… Да, да! Всё дело в
пыли. Мусора в моем мире, в моей голове тоже очень много. И нищих, и попрошаек.
И — пыль! Очень пыльно в моем внутреннем мире, который плоть от плоти, дух
от духа — дитятко земли родной! Пыль! Даже блестящие образы она делает
неопрятными. Пылью покрыты не только просторы и города “великой и необъятной”,
но и всё остальное. Хлопнешь, бывало, по лбу себя от удивления или неожиданной
какой-нибудь ясности, аж звезды вокруг сыплются! И обязательное пылевое облачко
вылетит тут же: шутовство, слова непотребные, печаль-тоска любимая. В Париже
хлопать себя по лбу опасно. Заметят. Вычислят. Нельзя пылить. Голова стерильна
так же, как носки.
Совершенная сводила за собой на
экскурсию — к частному доктору. Я кочкой просидел в приемной, ожидая
окончания “экскурсии”, больше часа. Потом посетовал мимоходом:
— Лучше бы дома остался.
— О! Значит это важно! Да?
— Пустяки.
— Нет, не пустяки. Раз это
обстоятельство потребовало слов, значит не пустяки.
Дураком в чувствах, в чувствительности
быть гораздо хуже, чем просто дураком от головы. До первых в России еще
эволюционная очередь не дошла, а вторые канонизированы на корню. Вечный сон.
Пыль времен поднимается здесь путем потрясений. Истинно как бы: особый русский
путь, о нем много говорится. Слова тратятся и тратятся. Значит это важно.
Француз — топологическая точка на
карте парижской богемы и бомонда. Он молод и бесшабашен. Через неделю уедет в
Афганистан, потом в Монголию, к пустыне и выносливым, таким же, как он сам,
монгольским лошадкам. Надо успеть пообщаться с “заведующим связями”. Сегодня
вечером мы вместе ужинаем.
Связи — это как-то очень грубо,
хотя и отражает суть действия и намерений. Лучше скажу на русский манер: друг,
дружба, дружественность. Француз мне очень понравился; люди проживают через
него испытания, к которым они сами подступиться не смеют. В идеале ведь чужих
людей нет вообще, поэтому опыт другого передаваем. На практике между людьми
всегда есть мембрана отчуждения, почти непреодолимая ни для внешнего гостя, ни
для живущего “в себе”. Особые агенты, человеческие нейтрино, способные свободно
передвигаться сквозь эти невидимые преграды, олицетворяют что-то навроде
человеческой надежды, шанс на выход из… Из чего?! Из круга, тупика, петли? Цель
движений — движение. Одержимость, прежде чем расходовать слова, расходует
себя самое.
Какой прихотливый сон! Порхают в нем
жаворонки самолетов, расползаются божьими коровками цветные машины, точно
листики, цепляются к веточкам улиц лавчонки и кафе, материнскою грудью
вздымаются церкви — всё для снующих пылинок! Именно в их головах живет эта
схема, в этой ловушке живет голова. Сила фантазии превышает силу людей;
пойманная, она не становится жертвой, а отпускает ловца подняться или
опуститься до слепого служителя и влюбляет в себя до последнего: “Ах!” Есть
однако и те, у кого в этом мире бессонница духа, горек их взгляд, не берет их пилюля
по имени Жизнь.
Минувшей ночью, где-то после двух,
резонатор ванной комнаты усилил сокровенное пение соседа:
— Хари Кришна! Хари Рама! —
доносилось откуда-то из-под унитаза.
Каждый спит на своем боку. Сон, как
смерть, необратим. Убаюкаться легко: во дворе, в университете, на тюремных
нарах или за лобной трибуной. В родной деревне, в тайге или в Париже. Сон
цивилизации — наркотик. Кому-то хватает постоянной дозы, кто-то
увеличивает ее. Погибших нет. Голограммы людских судеб играют, как блики на
воде. Какая же это погибель? Это и есть красота!
Русское слово злое. Кодекс чести мы
молча читать разучились, а когда вслух его произносят — звучит приговором.
Французы не кусаются. Боевое искусство
цинизма, вирусоподобная духовная близость и страсть к философскому
эксгибиционизму и самоистязаниям не ценятся. Тут другая валюта. Смотри и не
дергайся.
Сегодня уже третий день пребывания.
Уже будто бы хорошо. Уже будто бы слегка ориентируюсь в карте метро. Как только
сойдутся эти двое — “уже” и “будто бы”, — то всё! Можно храпеть на
всю катушку! Во всю ивановскую!
Как текст превращается в контекст?
Ведь именно он, контекст, определяет уровень и скорость взаимности. А
текст — это вся жизнь: видимое, слышимое, осязаемое и символическое. И что
после? И что дальше?
Совершенная — мастер контекста.
За три дня она “сшила” людей и события так, что сегодня я вполне самостоятельно
назначил свое первое рандеву.
И все-таки домой хочется. Этот
“компас”, как у птиц, не ошибается, если его не сбивать специально. Хорошо, когда
внутренняя навигация в исправности: нормально тянет к родному дивану. Да и
сгоревшую от грозы аппаратуру хочется починить поскорее.
Я воображал до самого последнего
времени, что можно собрать, сделать себя, не сходя с места, не носиться по
миру, а спокойно собирать его в себе. Как дерево. Не дождался. Приехал в
провинцию профессор Г. и ковырнул: “Явления культуры перестали рождаться в
сельской местности 150 лет назад, а лет 50 назад они больше не рождаются в
малых и средних городах. Есть лишь несколько подходящих точек на планете —
это мегаполисы”.
Диагноз провинции — бесплодие.
Оказалось, что для культурного “явления” мало иметь лишь родителя, должно быть
еще и место. Виртуальный эрзац “места” (книги, фильмы) не годится, так как он
не создает главного — родовой среды, контекста бытия.
Вероятно, следует денно и нощно
физически активно пытать судьбу на оплодотворение: хочу-хочу-хочу! Турист
наслаждается шумом и видом иного сада жизни, а плодов не пробует, так как он с
ними и не встречается, поскольку плоды — это люди. Никакие музеи не скажут
того, что наболтается вдруг за случайный вечер. В музеях нет контекста. Он не
живет отдельно от своего живого генератора.

Бац! Бац! Смена кадра. Где-то по
Парижу возят американского президента, по городу шныряет вооруженная охрана, я
видел какой-то черный дым над крышами, ненадолго блокировали метро, искали
бомбу.
Бац! Бац! А мы сидим с Совершенной на
деревянной лестнице, ближе к небу, ждем, когда откроются апартаменты Севилии, к
которой Она пришла давать уроки игры на скрипке. Сидим, ждем, Совершенная
рисует себе ногти белым карандашом, Севилия застряла в метро.
Мадам эта тоже особенная, тоже пешком
через Тибет маханула однажды. Они, мне кажется, все тут через Тибет… Еще с
одним обещали познакомить… Я в Париж, они в горы. Так и сходимся. Не в
пространстве — в необходимости двигаться.
Каждому свое. Мой Тибет сегодня —
это чужой город. Здесь много одержимых одиночек. Так много, что кажется —
они одно целое. У них тут свое собственное “как бы”.
Возможно, мы собираемся вместе лишь
для того, чтобы наше одиночество могло вздремнуть.
Нормальная судьба рассчитывается по
законам баллистики. Каков первотолчок? Масса жизни? Траектория? Форма тела и
способы стабилизации? Старт — финиш. Если всё по расчету — это
счастье.
Судьба творческого человека иная, на
ручном управлении, полет так и норовит завернуться в мертвую петлю, замкнуть
начало с концом, заставить судьбу, как дракона, грызть свой хвост. Затем,
чтобы, дойдя до “нуля”, сменить эклиптику жизни, реинкарнировать еще при
неостановленном пульсе, уйти на новый виток. В Гималаи, в Монголию, в Нью-Йорк
или в лесную чащу.
Продвижение в пространстве стимулирует
продвижение внутреннего нашего дракона к последней точке, к короткому замыканию
высокого внутреннего тока. Ради этой последней вспышки многие с улыбкой платили
дыханием и кровью. Кому? Судьбе, конечно! Она ведь и есть тот самый Дракон. И
чем больше зверь, тем он ненасытнее.
А потом случился вечер в кафе. Джаз и
обаятельнейший негр, танцующий степ.
Француз пригласил на ужин русского
профессионального переводчика, бывшего директора крупного московского
издательства. Бывший свистел музыкантам в два пальца, трепался по-французски с
русской девой и ее ученицей, тибетоходкой Севилией, пил пиво, а когда насытил
все свои жажды — разглядел и меня:
— Ты знаешь, парижане ни хера не
чувствуют. Не умеют чувствовать! Они очень быстро живут, залпом, примерно так
же, как мы водку пьем. До бесчувствия.
Потом он поведал, что времена плохие,
что в Париж он ездит часто, что с утра и до вечера в работе или в поисках
работы, что из десяти его предложений принимается только одно…
— Лёвочка! Как же у тебя без языка-то
получится?!
Из кафе, по ночному Парижу, я шел к
дому один. Пьяных мало, почти что нет, но многие физиономии настораживают: не
предложили бы чего на ночь глядя. Еще и деньги, небось, станут просить за то,
что отказываюсь.
Мастер перевода завтра улетает в
Москву, он чувствует, что его никто здесь не чувствует. Такая вот тавтология, а
на самом деле — обидища жгучая. Ведь и дома с этой человеческой роскошью
не очень-то.
Француз оплатил счет за всю компанию,
чем и поверг бывшего издателя в окончательное патетическое горе:
— Знаешь, такой, как Француз, на весь
Париж единственный! Таких больше нет. К сожалению.
У меня, собственно, было другое мнение
о количестве хороших людей на душу местного населения, но я смолчал. Московский
богатырь был слишком громкий и попахивал перегаром — вестником тлена.
Напоследок сегодняшнего дня я вот что напишу:
если события внешние не приводят к событиям внутренним, то пора ставить точку.
А “бывший” — упорный, из сна в новый
сон прорывается:
— Ты зачем сюда приехал?
— Пошел туда, сам не знаю куда,
принести то, сам не знаю что.
— Значит можешь себе позволить.
Значит могу.
Затишье в душе образовалось. Может,
гроза внутри меня копится? Ударит — тонкое порвется, перегорит. Пойду
тогда и я в Гималаи — чиниться.
В десять тридцать день начинается с
воспоминаний. Раньше, в пьяные свои годы, я обычно спрашивал поутрянке: “Эй, а
что я вчера делал?” И мне рассказывали ужасы. Здесь по-другому. Утром голова
имени меня спросила вдруг, ни к кому не обращаясь: “Эй, а что они со мной вчера
делали?”
Первое. Я, не перекрестившись, ел
сырые шампиньоны, в салате и так. Выжил и укрепился в атеизме.
Второе воспоминание. Милая официантка
изогнулась, как лиана, приблизила свое лицо к лицу Француза, путешественника и
писателя, прекратила мигать и утвердительно произнесла:
— Это Вы.
Это Француз и без нее знал.
И на третье. В шестиэтажном колодце с
ненастоящей лужайкой было весело. Орала женщина. Я думал, что ее бьют или
замотало в миксер. Решил позвонить в службу спасения. Потом она стала орать еще
громче и очень ритмично. Я понял, что всё закончится хорошо.
Тут и день будто бы прошел сам собой,
по течению.
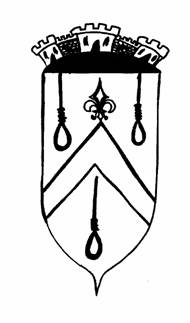
Открываю я очи свои ясные,
прикладываюсь к дырке видеокамеры, и что я вижу? Ба! Какой большой дом! И как
называется? Ба! Версальский дворец, садик-огородик французского короля!
Ресничками: хлоп-хлоп! Нет уже короля, два века пролетели, как не бывало. А
садик стоит. И мои новые друзья-знакомые посреди этого суперогорода разыгрывают
скетчи — жизнь насекомых в исполнении актеров. Стефания руководит.
Деревья в саду, как на распятии: вверх
расти им не дают, режут, боковые ветки привязывают к металлическим
направляющим — природа вынуждена повторять узор человеческой прихоти.
Жизнь, подруга Совершенной, певучая
звездочка из глухой приуральской деревни, сопит над розами, шуршит гравием под
ногами. В воздухе влажноватое и теплое благолепие запахов, глаза, куда ни
посмотри, отдыхают на зелени. А формы играют: квадратные кустики, плоские
деревья, геометрические грядки. Сладкий, очень сладкий сон: никакого
прогресса — пастораль и идиллия. Стайками гуляют детсадовские группы, при
каждой группе — обязательный мужчина-воспитатель. И две-три женщины.
Молодцы французы! На одном Инь в деле воспитания далеко не уедешь.
Показываю Жизни на распятые деревья:
— Насилие, однако!
— Чем ближе к королю, тем больше
насилия!
Значит центральная фигура является
источником насилия по определению.
Жизнь смеется:
— Я свободу люблю. Только поэтому
рядом с королями не оказалась.
Целуются все вслух, громко, два раза,
обозначаются у правой и у левой щечки: чмок-к! чмок-к!
Сегодня я нянька. Сижу с дочкой Жизни
Мией, охраняю дом, ассистирую метаболическим процессам молодого организма, пасу
кота Тюню и имею за всё за это доступ к компьютеру. “Привет!” — пишу я на
Родину, то есть, не мысленно и сердцем, а
удобным электроспособом соединяюсь с семьей. Тут и встречный телефонный
звонок поспел. На десятом или одиннадцатом гудке я поднял трубку: “Але?” Жена!
Родина меня услышала.
Дома всё хорошо. Дочь обожгла палец.
Дом Жизни находится в пригороде
Парижа. Это одноэтажное строение (кухня, гостиная-прихожая, детская) с видом на
зеленый дворик. Зелень дожила до наших дней, французские короли — нет.
Ву-а-ля!
Сегодня я перед зеркалом причесался
вилкой. Совершенная унесла из дома единственную расческу. И зажигалку тоже.
Сижу, причесанный, жду журналистку из
“Русской мысли”, она проспала рандеву, позвонила, извинилась, и мы перенесли
встречу на полтора часа. Обязательность здесь трактуется по-своему: должно быть
хорошо. Просто хорошо. Об этом заботятся. Время здесь играет вспомогательную
роль.
Дома, в родной полудеревне я иногда
воображал себя щукой среди головастиков, здесь я себя чувствую головастиком
среди щук. И там, и здесь ироничная снисходительность: “А! Не умеешь
плавать-то?!”
Должна же существовать гармония! Между
жизнью и живущим, между шагами путника и его формой. А то как в примерочной: то
слишком жмет, то висит. Где взять место и время, чтобы статься всему впору?
Человек отправляется в путешествие,
совершает некое круговое движение в пространстве и в самом себе, возвращаясь
каждый раз к одной и той же точке — к месту! С каждым разом круги
увеличиваются и приобретают разнообразие качеств. Но место остается неизменным!
Только “место” одинаково годится для
“сплюсовывания”, сложения усилий одной жизни или жизни миллионов. Именно
“место” фокусирует живущих не только в пространстве, но и в пространствах
времени. Возникает культурный дом, сфера сверхсознания, дающая осознать себя
любому желающему и — присоединиться, “вложить себя”, например. При условии
негласной цензуры: планку “самовложения” устанавливаешь не ты.
Так появился Париж. В котором
наплодились миллионы непризнанных гениев.

Гениев выручает мир внутренний. Слава
Богу, там тоже можно ходить кругами, путешествовать, изменять и изменяться,
обманывать время и упорно увеличивать внутри себя свою собственную взлелеянную
столицу. Она никому не покажется, но она — есть! И виртуальное “есть”
страстно стремится эмигрировать в настоящее “будет”.
Преодолев одну стену-мембрану
неизреченности, ты наталкиваешься на другую: неприступную высоту и скорость
жизни. Здесь могут помочь только друзья. Одинокий же, ты полностью уйдешь в
построение своего внутреннего “места”, где времени нет — эта вечность, как
шаровая молния, существует и поражает, пока живо твое тело.
И еще, главное из главных в этой теме:
существует “перебежчик” между мирами — это Бумага. С большой буквы. Она
выручает даже умерших.
Было бы место. А время найдется.
Дневник — единственный способ
уйти от головастиков и не бояться щук. Общаясь с бумагой, следует опасаться
лишь одного: вранья. Она ведь очень, очень белая, мадам Бумага!
Беременные мыслью и чувством творцы
стремятся на нерест. Золотое время для браконьеров!
По-русски в Париже я говорю только с
дневником. Никто больше не понимает. Если у Бумаги достанет сил, она потом с
Парижем поговорит сама. За меня. Когда-нибудь. Как удивительный друг, как
неожиданный мостик между “местом” и “местом”.
Вспомнил нюанс вчерашней телефонной
беседы с женой. Она говорит: “Спроси, что следует посетить, какие места
лучшие?” Объясняю: “Боюсь спрашивать”. Жена в удивлении: “Почему?!” — “Мне
кажется, что у них так: коли спрашиваешь — значит хочешь. Начнут
хлопотать. Поэтому молчу”. Приоритет желаний.
Со словом в Париже следует обращаться
очень осторожно, как с чекой на боевой гранате. Ошибся разок —
разговаривать больше не будут.
Сейчас придет корреспондентка, а в
комнате полно мух, мелких и некусачих, но всё равно — мух. Пойду
размахивать полотенцем. Не для показухи. Французы — народ тонкий; тебе самому
будет неуютно, если неуютно партнеру. Так что, о себе забочусь.
Накануне Совершенная
проинструктировала:
— Сваришь ей кофе, дашь обезжиренное
печенье. Шоколадку, что привез для меня, не давай. Обрыбится.
Позавчерашний сон вдруг всплыл,
экс-издатель просвещал: “Который день в Париже? Третий? Значит рано еще. На
шестой день приходит э-э-эээ… Нет на русском… Приходит — чувство! Ты меня
понял?”
Понял. Есть на русском: въезжаешь
полностью. Осталось два дня. Потом – выезжаешь сколько-то.
Я не хочу чувствовать, не думая, я
привык больше думать, не чувствуя.
В каждой стране свое: на опасных
направлениях жизни стоят заглушки — для предотвращения возможной утечки
сил. И то, что в одном месте магистраль, в другом — тупик.
В машине по дороге в Версаль мы
говорили о… тюрьме. Русские глубоки в мысли, французы глубоки в чем-то другом.
Глубину в человеке часто задает внешняя недоброжелательность мира, его теснота,
атака, агрессивная ограниченность.
Узники мыслят. Это их “запасной
парашют”, уносящий своего обладателя в иное измерение.
С Россией всё понятно: зона вдоль и
поперек. Это “место” уже не изменить. Надежда лишь на себя самого, на “запасной
парашют”, на бесконечную русскую “высь” или “глыбь”. Просторы родины не в счет.
Ими можно гордиться или пользоваться, но они не содержат физических точек
роста — мест, где культура рождается, а не заимствует.
Это желчь. Русская мысль вырабатывает
отличную желчь, которая очень полезна для мирового “пищеварения”, но
наслаждаться этой желчью и улучшать ее состав могут только сами русские.
Профессор Г. так и сказал в своей
университетской лекции: “Городов, в культурном понимании этого слова, в России
нет. А что же тогда есть? Есть поселения типа Пермь или Москва”. Елей на душу!
Елей из желчи.
В чем же глубоки французы? Во
Французе! В тех маменькиных аристократических сынках, которые, повзрослев,
мстят своему инкубаторскому детству — становятся Великими Французами.В том, что
детство, построенное на чутком наблюдении и бесконечных охранных
запретах — это тоже тюрьма. Поэтому комплексы паинек хорошие, проснувшиеся
в самих себе, люди “переходят”, переходя через Гималаи. Пешком, по-настоящему и
с мстительным наслаждением играя со смертью.
Русских и французов объединяет не
духовная близость, не открытая душа или темперамент. Их объединяет любовь к
смерти. Так случается со всеми, кто долго был скован, но сумел-таки стать
свободным. Жить тогда хочется, как на безумных качелях: не “туда-сюда-обратно”,
а — куда-то “туда” лишь!
Вот и девиз: “Построить дом, вырастить
сына и — перейти через Гималаи”.
Париж — город. Любой “первый
парень” из русской деревни может здесь покуражиться, но трудно, очень трудно
деревенскому жить в Городе и жить Городом. Потому что практически все приезжие
работают “на минус” — они не вкладывают себя в место, а лишь берут от
него. Поэтому их сторонятся. Зато как хороши туристы! Это просто живые
кошельки, которые непрерывно “плюсуются” с экономикой страны, словно бензин с
мотором.
Без бывших колоний и нынешних туристов
завяли бы Версальские угодья, королевский огородик, на котором маленькая Мия
«дерёт» клубнику, пока никто не видит. Это гены. Папа у нее француз, но
мама-то — русская!
Сегодня спектакль среди травы. Первый
день жарко. Потеть нельзя — это запрет.
Мие привезли ее настоящую няньку,
я — нянька запасная. Готовлюсь к видеосъемке (привез с собой аппаратуру),
хотя видеокамера может и не понадобиться. “Бытовуха”, те же самые проблемы и
заботы, что и во всем мире, покрывает Версаль, как небо землю. Музыка,
ненависть и быт — знамения интернациональные, не требующие перевода. И я
это вижу.
Каждый спешит, боится опоздать к
очередной точке встречи. К о-че-ред-ной! Это деловой ритм, суета, из которой
возникают две главные линии жизни: одна уходит глубоко в повседневность,
стереотипную обыденность, другая лучом устремляется в никуда. Если повезет,
будешь жить “наразрыв”, чтобы выдержать эту раскоряку, чтобы обыденность имела
свой шанс расти.
Ну, это уже патетика. Пора идти
нянчиться.
Юная журналистка из “Русской мысли”
девушка замечательная. Мы проговорили два часа. Она дала телефон редакции и
сотовый номер Президента ассоциации “Франция — Урал”.
Журналистка, узнав о моем давнем
увлечении велосипедом, пригласила на следующие выходные в Булонский лес: “Он такой
большой! Мы там катаемся с друзьями”. Очень приятно. Я про него в книжках
читал, там разбойники водятся.
Если ты приехал в Париж удовлетворить
свое любопытство, ты его удовлетворишь. Но это всё.
Если ты приехал в Париж показаться
любопытным, ты, скорее всего, проиграешь. И это еще не всё.
“Двигаться надо! Так говорят
французы”. — Это постоянная ремарка, которую я слышу. Стать собой, не
сходя с места, в Париже нельзя. Постоянное личное место жизни, как у дерева,
отсутствует. Париж – место без выбора: двигаться надо!
Жизнь играет на гармошке “Чайка”, за
ее спиной танцует Бланш, девушка-актер, гимнастка, я жму на “record” —
кнопку “запись” видео. Жизнь ворчит: “Маются, скутся! Всё не знают, что со
своим телом делать?!”
Русская желчь в чистом виде неупотребима.
Но умело приготовленная, она очень полезна при ломоте и тоске.

Спектакль в королевском огороде сыгран
прекрасно. Я снял минут 12-15, на клип под гармошку. Француз тоже снимал,
камера у него малюсенькая, но серьезная — формата DVCAM. Это профессионально.
Он такой же сутулый, как и я: велосипедный профиль — слишком долгая игра в
прятки со встречным ветром. Борьба заставляет пригнуться для того, чтобы
выиграть.
Спросил сегодня себя: для чего я пишу
и снимаю? Для своей Родины, для семьи то есть. Звучит, как оправдание: сам-то
уехал, а их не взял. Все мужики так делают, то есть, делают что хотят, а потом
придумывают, как бы им поизящнее договориться с тревогой на сердце?
Так, небось, появляется на свет
искусство, узкое, типа эпистолярного, или оглушительно-публичное. Всё равно. В
основе — импульс, сломавший обычное равновесие жизни. Его можно сломать
искусственно. Но это не искусство — это рулетка, азарт, бесшабашность,
слепой прыжок в неизвестность, русское “авось”, формула сказочников: “Пойди туда,
сам не знаю куда, принеси то…”
Я понимаю наших девчонок, “прыгнувших”
в Париж, и понимаю Француза, “прыгнувшего” однажды в алкоголь и в Россию.
Для высокого и серьезного оправдания
нужна адекватная причина. Иначе не получится ни настоящей трагедии, ни
настоящего возбуждения. Пороху хватить должно больше, чем на самоутверждение.
Самоутверждение — это конфуз.
Твой сон — мой сон, а мой
сон — твой. Два часа напоследок дня колесили по ночному Парижу с Мииной
нянькой. Она: “Русский чуть-чуть говорит. Специально ездить Петербург”. Мия,
утомленная королевским огородом, спала в специальном креслице на заднем
сидении. Я увидел издалека Эйфелеву башню и запричитал: “О-ооо!!!” Нянька,
сильно путаясь и плутая, погнала прямо к башне. Из запрещающих автодорожных
знаков она иногда реагировала только на красный глаз светофора.
Мы затормозили прямо у ног железной
старушки, ярко освещенной огнями и в миллионный раз обласканной любопытством
приезжих.
— Фото! Пять минут. Уи?
— Уи. Двух хватит.
У ночного диско-клуба, рядом с “Мулен
Руж”, столпотворение. Воскресная толпа желающих — несколько тысяч человек.
Стоят, толкаются. Стеклись со всего земного шара, привлеченные легендой.
Литературный сон, литературная явь: мотивчик жития насвистела судьбе
туркомпания. А глаза в очереди у мужиков такие же, какие были у нас, советских,
во время штурма какой-нибудь пивной точки.
На большое течение всегда стараются
накинуть горлышко поуже. Это я физику припоминаю: в узком ходе при большом
напоре жуткая скорость развивается. Можно деньги вертеть, поскольку легенда для
всех, а доступ — для избранных. Как бы, конечно, как бы…
Ночью Париж ярче, чем днем.
Спать, спать! Спит мое любопытство,
усну и я. Может, помстится чего оригинальное: медведь с шарманкой или будто бы
моюсь из ложки… Будто бы всё, будто бы! О чем жалеть, чего стесняться?!
Ночью позвонила Совершенная, попросила
включить автоответчик с поступившими сообщениями, прослушала и объявила: “Идем
на пикник”.
Сегодня воскресенье.
Французы живут легко, прихотливо! Каждый
носит свою строгость сам. Странно, что журналистка вчера не очень-то поняла
мой, подобный, как мне кажется, вариант поведения: зачем заранее выбирать
жизнь? нужно просто быть готовым к ней, и тогда она сама тебя выберет! Ты
занимаешься самоподготовкой, она — выбором. Так можно избежать амбициозных
ошибок и навязываемой извне воли. Так поступает вода в природе.
Жизнь людей вокруг тоже текуча. Она,
как и вода, имеет не одно состояние: может застыть, может течь, а может и
испариться вдруг.
Вчера прокатились мимо колонны в честь
Александра I. Колонна стоит, а сам Александр I испарился. Осталось
лишь то, что течет теперь во мне — информация, рождающая чувство, аллюзии.
Чтобы и я тек мимо колонны не просто так. Круговорот!
В сонное царство Homo sapiens вход
только один — человеческое семя: приснился сам, приснись другому. Иначе
видения исчезнут. Воды воображения растворяются в водах времени. Это другая
смерть, неличная, с этой смертью играть нельзя, потому что она безальтернативна
как антифакт бытия.
Льды, реки, облака… Всё
перемешивается, потому что нас подогревает Солнце. Вчера французский парень
напел мне гимн Советского Союза. Его-то кто “подогревает”?! И меня, когда я
пишу эти строки?
Игра воображения — это игра
конструктора, конструкторов и конструкций. Всё вокруг человека играет
упорядоченным смыслом. Лишь природа нас не поймет: она играет просто так, без
искусственной логики. Поэтому устойчива и самовоспроизводима в любом своем
круге форм.
Смысл! Ахиллесова пята разумных
построений, священный фимиам внутри нас.
Французы стремятся к вечности естества
(или естеству вечности?) по-своему: роскошно и без оглядки. Русские стремятся
почти так же, но — через горе и горькую.
Коды воображения определяют модель
поведения. Можно, конечно, выскочить сквозь замкнутый круг, попытаться. Но для
этого придется стать особым изгоем. Удачливых “выскочек” обычно распинают, а
общий круг допустимо воображаемой жизни прирастает на длину их “скачка”.
С “подогревом” в мире не всё очевидно.
Воображение шевелится, конвектирует. Есть какие-то невидимые светила. Бог?
Боги? Богиня?
“Серое вещество” планеты, сама
цивилизация — полнейшее, стопроцентное язычество! Поклонение
воображенному. Полтергейст с точки зрения какого-нибудь опоссума, которому
неведомо желание, — рвать предопределенность.
Разуму страшно: он не понимает, зачем
класть на плаху тело и душу? Ясно лишь странникам: круг бесконечной судьбы
превращается в линию! Ну, хотя бы в кривую…
Идея Бога подвижна. Мембрана
недопустимого стремительно смещается. Национальные архетипы превращаются в
цветник стереотипов планеты, в милую клумбу. Дирижером людского воображения
становится общий аврал, век информации. Новая вера, новый диктат.
Я пишу эту отсебятину на фоне иной
жизни. Я здесь — камбала, прижавшаяся ко дну, мимикрирующая под рельеф. Я
могу управлять мимикрией, но не могу управлять фоном. В этом разница между
иностранцем и местным жителем. В месте, из которого произросло семя жизни.
Фактор места фатален.
Что остается? Миграция камбалы,
упражнения по самосохранению да вера в удачу — в шанс ассимиляции: камбала
может стать частью фона.
Ах, дневничок ты мой, дневничок!
Тюремная отдушина в безъязыком для меня пространстве! Шмона, я надеюсь, не
будет.
Совершенной пока нет. Обещалась быть к
восьми. Уже полдесятого. И зачем я только будильник на семь ставил?!
В доме есть телевизор, но я его не
смотрю, аллергия на экран; он для меня — “жизнезаменитель”, что-то похожее
на резиновую женщину из секс-шопа, наверное. Мой “телевизор” —
воображение. И он мне нравится как персональный канал.
А Совершенная настаивала:
— Смотри, слушай язык, все иностранцы
проходили через это. Я сама три года смотрела.
Нет уж, лучше сразу ноги протянуть.
Суть жизни следует рассматривать с закрытыми глазами. А язык? Нужда научит.
Нужда быстрая, кого хочешь догонит.
Нужда жить: странно, не правда ли? Без
мотивации круг человеческой жизни схлопывается в точку, молниеносно
затягивается, как петля. Француз знает.
Главное, чтобы нужда бежала за тобой, а
не впереди тебя. Ишь: нужда догонит! Догонит и перегонит! Поэтому важно менять
мотивчик жизни, важно упрямо распрямлять круг жизни в прямую, важно блуждать и
накреняться.
Моя нужда — это я сам. Другая
меня с панталыку не собьет.
Высший пилотаж в видеомонтаже —
это кадры встык, жесткая склейка. Жизнь не микшируется, красота в украшениях не
нуждается.
Перемещение по Парижу — это
всегда “жесткая склейка”.
Каждая нация скучна тем, чем она
гордится: будь то русская водка, американский порядок или французские поцелуи.
На перекрестке, перед светофором, водитель-мужчина бросил руль и кинулся —
врукопашную! — целоваться с пассажиркой.
В метро, в вагон, входят музыканты,
вооруженные электроинструментом с аккумулятором и колонкой на тележке. Играют
все очень хорошо, зануд и вымогателей нет. Хотя “сидячие” попрошайки
встречаются — это самые примитивные, те, кто играет на самоуничижении, как у
нас, вымогатели на жалости.
Предупреждение Совершенной: “Смотри
под ноги, здесь кругом собачье гуано”. Спасибо, вовремя, а то я всё на
архитектуру да на архитектуру…
На станционной платформе пятнадцать
человек в камуфляже, вооруженных автоматами. Напоминание о том, что мир —
крепость, и она находится на осадном положении. Продолжать не хочется: знаем,
чем кончаются осады. И какой ценой.
Жизнь говорит о своем: “Вчера жениха
упустила, не было с собой визитной карточки. Такой жених! Раньше только женщины
были выставлены на витрину, сейчас — все. Секс здесь ни при чем”.
(Интересно, это “ни при чем”
употребляют часто, и я, и они, очевидно, намекая на “незаряженность”, на
нейтральность состояния жизни, что на практике увеличивает ее “проникающую
способность”.)
Купаться где попало нельзя.
Государство говорит, что оно так заботится о жизни граждан. Я думаю, оно
заботится о жизни речки. Что тоже, наверное, очень хорошо и правильно. Запреты,
добровольно принятые обществом, не унижают и не побуждают вырабатывать
избыточную желчь.
— Пойди в магазин, купи себе китайское
мясо и рис, — говорит Совершенная.
— Да я не хочу.
— Нужно отвечать: спасибо, нет.
Она прекрасна и неутомима. Мерси,
мадам!
— Бонжур! Сава?
— Бонжур! Сава!
В переводе: привет! всё хорошо? всё
хорошо!
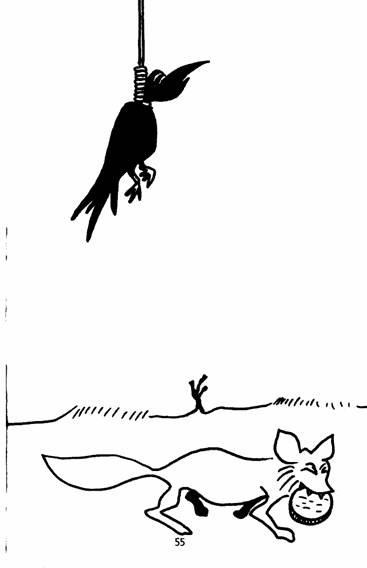
Совершенная явилась домой в белых
штанах Француза, свои залила сиропом. Ночные гуляния — это стиль. Спать
надо до обеда, а не до семи утра. В Москве уже многие так поступают. Даже
фирмы.
Я сижу босиком и без футболки на
террасе перед входом в дом Жизни. Жарит июньское солнце, воет Мия, трется под
ногами кот Тюня, в небе то и дело слышится реактивный рокот. Хорошо. Напоминает
родительский двор в деревянном доме из канувшего безвременья и развитого
социализма. Двигаться надо! Много самолетов над городом — это показатель
его экономического и социального здоровья.
Сегодня в Приуралье, над
провинциальным моим городком, тихо. В небе гудит раз или два за сутки. Граждане
пялятся: местные политики, бандиты и коммерсанты летят по небу вместе. Не
низко, не высоко. Эко! (Мы в детстве так бегали украдкой от пап и мам на
соседнюю улицу — смотреть на грузовые “полуторки” и “эмки” начальства.
Механизированное движение в пятидесятых было очень редким. Лошадьми
обходились.)
“Земля круглая”, — задумчиво
говорят в России, впадая при этом в экстатическое состояние мирового братства.
Может, и круглая. Но не здесь. Здесь земля ровная: и дороги, и уклад жизни.
Земля за границей плоская. И стоит на трех равноценных китах: “можно”, “нельзя”
и “хочу”. У нас, в России, с первым, вторым и третьим — перебор.
В Париже выходит газета “Русский курьер”.
Редакция устроила пикничок на зеленом парке-островке меж двух рукавов Сены.
Всё, как у всех: еда, жара, снующие дети и томление духа. Говорят по-русски, но
расслабляться нельзя — это французы, говорящие по-русски.
Отдельного описания удостою сам парк.
Дорожки, короткая трава, глухой забор, отсекающий реку от людей; покормить уток
на воде можно лишь в специально обустроенном месте — через решетку.
Загорают здесь, в черте города, очень
целомудренно: босиком, но в штанах.
Из большого бумажного кулька достали
запеченную ногу животного, с натуральным копытом на конце. Ухватились за это
копыто и давай тесать мясо. Суховато, но вкусно. Как-то называется, мясо
по-македонски, что ли? Забыл. Не всё ведь, что приснилось, помнишь.
Едят зелень, смеются, поют, а глаза у
всех, как у чекистов, работают, оценивают миг за мигом; а в переносном
холодильнике два малюсеньких потных “мерзавчика” — водка: даже не
притронулись! Но говорят по-русски и детей своих говорить заставляют.
— У меня со своим не получается.
— А я взяла и просто перестала ему
отвечать на французском. Быстро научился.
Ага. Нужда научила, умная мама
догадалась: создавать следует в первую очередь не стимул, а нужду. Вот это
по-русски!
Мия в машине измазала мою белую
футболку какой-то красной помадой. Сижу теперь, размышляю, кого люблю больше:
детей или того, кто в белом?
Продолжаю думать о “дембеле” —
долгожданном дне возвращения в Россию. Может, я нетипичный какой, но компас
русской “хотелки” устроен, как у птиц — тянет на север; птенцов лучше
выводить в суровых условиях. Ты ведь, душонка моя, птичка моя, понимаешь это?
Еще дома я заготовил пленки с
начитанными, доведенными до радийной кондиции текстами своих стихов. Так
сказать, в авторском исполнении: сильвупле! Этакая звуковая визитка с обратным
электронным адресом. Похоже на рыбалку, где в качестве наживки рыбак предлагает
себя! А что делать? Ву-а-ля!
Возможно, по мере написания этого
дневника пристрастия и даже убеждения автора будут меняться. Конечно, будут.
Присяги на “односмысленность” я не давал.
Я всё больше уважаю телесную
утонченность французов; бытовые, повседневные действия совершаются, как
духовный акт. Глупый потешается над мудрецом от своего бессилия, грубый топчет
летучее чувство от злобы и зависти.
Французы одухотворили быт!
Русская школа в ином — в
самозабвении: выпивка, политика, лень, работа на износ и безглазая вера в любой
ритуал. Есть у русского способа плюсы и минусы: тело в грязи, а душа — в
князьях. Во размах! Русские дорог жизни не мостят, зато ставят вешки. Ширина
дороги от ада до небес, и длина такая же. Теоретически всё верно. Практика же
ультимативна: всё или ничего. Поэтому “всё” — это в вере, в теории, а
“ничего” — в быту. Мы ведь так и говорим, утешаясь: “Ну, да ничего…”
Сегодня видел главу аристократического
семейства, отца Француза. Он известный в стране журналист, выразитель правых
взглядов и идей. Надо же! Я ведь ему руку жал. Правую. Только потом узнал, что
не простая рука была. Завтра Совершенную ведут в театр, куда аристократическое
семейство получило специальное правительственное приглашение. Кино да и только!
Важное для Француза и Совершенной: родители на них посмотрят, родители их
покажут.
Я быстро научился здесь несерьезному,
свободному в мимике лицу и пристальному взгляду сквозь лучезарность. Раз-два!
Завязалась какая-то ниточка. Возможная встреча, перспектива дружбы,
сотрудничества.
— Это важно! — подчеркивают
французы каждую мелочь.
А ты вспоминаешь русское отношение к
возможным возможностям. Не поступил в институт:
— А! Это не важно…
М-да: счет не в нашу пользу.
Зрелость, играющая в детство,
прекрасна! Слабость же прикрывается показухой, бравадой.
Женщины во Франции духами не пахнут.
Чисты и нейтральны.
“Чмок! Чмок!” — при встрече, лица
слегка, мимолетно касаются лишь щека к щеке, обозначают поцелуй — губы
громко чмокают в воздух. Все проявляют сверхсексуальный сверхтакт и
корректность, как при обращении с огнем в пороховом складе. Не возбудить бы
кого нечаянно, не возбудиться бы самому. А то — взрыв!
— Чмок! Чмок!
Сексуальный психоз. Можно еще сравнить
с управлением в автомобиле: надавите до упора на газ и тормоз
одновременно — получите сердце француза.
Конечно, я могу судить лишь по
частностям, вокруг артисты да писатели — публика, выпадающая из стандарта.
Но всё же, всё же…
Черт! Они же от того, что сами не
пахнут, чуют инородный запах, как горная форель, по одной молекуле! (У нас
проще. Дома даже я, толстокожий, несколько раз из трамвая выскакивал из-за
запаха женских духов. В России их делают по программе конверсии из боевых
отравляющих веществ: дыхание перехватывает, и слезы текут.)
Совершенная сменила мне постельное.
— Пахнет сильно.
Я аж завыл: честное слово, мылся
два-три раза в день. И всё зря.
Барону шестьдесят, и он очень болен.
Его здесь все любят и с восторгом рассказывают о его любви к людям. Просто он,
наверное, по-русски добрый. Мие он стал крестным отцом, когда Жизнь его об этом
попросила.
Барон живет в Париже всю жизнь с
“волчьим билетом”. И от России откололся, и французским подданным не стал.
Развитое государство видит в чужаке
агента, который будет жить “на вычитание”: больше брать от богатого общества,
чем давать ему. Давать, мол, нечего. Это зачастую оказывается ложным, обидным и
несправедливым отношением к человеку, но это — так. Любое государство
бесчеловечно, поскольку является формой. На языке форм с ним и говорят.
Барон человек вкуса. Очень
содержательный и приятный собеседник, одаренный переводчик, а его дом —
перекресток жизненных дорог русских знаменитостей. Барон “вложился” во Францию
весь, целиком, и она им восхищена. Франция — это друзья, а не государство.
Трудно удержаться от постоянного
сравнения двух систем жизни. В нашем случае всё наоборот: к иностранцу —
русские липнут, как электроны к ядру. Иностранец — катализатор,
непонятный, но притягательный центр “самосложения”. Никакой мистики,
элементарная вещь: больший потенциал организует меньшие.
В России нет главного
потенциала — наследуемой жажды жить, рваться в одиночку и всем вместе к
неведомой вершине.
В России государство мнит себя
содержательной частью бытия, поэтому людям достается роль форменных кукол. И
они скучают без жизни.
Еду самостоятельно: вторая линия
метро, пересадка, одиннадцатая и — до конечной. Дом Барона в пяти минутах
ходу от метрополитена, похож на наши “панелки”: пятиэтажный, с подъездами и
лифтом, с лестничными площадками, звонком, дверью в прихожую, с комнатами и
балкончиком. Сделано так же, только хорошо, уютно и чисто.
Барон — это всё-таки не фамилия и
даже не кличка, это — наследный титул. Полностью звучит так: baron de
Bennigsen. Очень русский человек. От его замечательной расположенности к любому
собеседнику хочется подвинуться встречно. Многие чувствуют его очень искренне и
очень близко.
Барон живет в Париже с 1949 года,
многих русских повидал на своем веку, русских любит и боится советских.
— Здравствуйте, заходите пожалуйста.
Комната заполнена книгами, пленками,
сувенирами — обычное логово ученого и писателя. В уголке теснится
компьютер. Главное место отдано большому круглому столу, застеленному
темно-зеленой скатертью.
Говорят, что Барон до недавнего
времени жил мощно, в непрерывном движении, подобно временам года, остановить
которые невозможно, но внутри которых можно петь, любить и наслаждаться
круговоротом разнообразий.
Барон — душа и совесть русского
Парижа. Его скрутил диабет, он располнел, ноги — в специальной обуви,
пальцы больше не могут держать гитарный гриф. Служит старостой в русской
церкви. Литературен в речи и в мышлении. У Барона мягкое, спокойное лицо,
чистые глаза, из которых не торопясь струится умный, невидимый свет жизненного
опыта и воспитания, черные, с проседью волосы — пушистая шапка,
соединенная с перевернутой подковой бороды.
— Собак боитесь? Нет?
Мы поцеловались с четвероногим
интеллигентом.
Через Барона, как через центральную
станцию метро, проходят все писательские пути. Пишущий народ заносит книги,
дарует, Француз тоже здесь бывает. Хорошо бы написать о судьбе самого Барона;
время изогнулось, превратилось в линзу, сфокусировало энергию века в одном
человеке в ярчайшую точку — а он не сгорел! Прозрачен, чист потому что!
Рассказывает о своем друге, поэте
Володе Н., который с детства просто боготворил Высоцкого. И вот Высоцкий
приехал в Париж, устроили концерт. А как раз в это время убило (или —
убили?) советского изгнанника Александра Галича, нелепо: проводом от антенны
приемника… Высоцкий об этом со сцены — ни слова.
— Мы потом сразу за кулисы. Как же
так, Володька?! Хоть бы безотносительно сказал, хочу, мол, посвятить песню
одному моему недавно погибшему другу…
А Высоцкий в ответ:
— Э, ребята, вы здесь, а я там.
И всё. Умер бог. Русского от
советского в самом себе не отличишь. Только со стороны видно, особенно, если
отойти не на шаг-два, а на два-три десятилетия.
Показываю и я свои книги, журнальные
публикации, распечатки, иллюстрации друзей-художников. Ничего не поделаешь:
чтобы увидели, надо по-ка-за-ться. Жизнь — товар. Творческая жизнь —
тоже. Добра этого в Париже хоть отбавляй. А тут и я со своим самоваром:
здрасьте!
Что хочу? Совета, оценки. Притащил к
Барону всё-всё, что привез; перед ним неловкости не испытываешь, он очень
добрый, на нем, наверное, все ездят.
Барон старается скрыть скепсис:
русскоязычных ходов и каналов здесь мало. Может, с переводчиком повезет? Ну,
это уже из области фантастики; деревенским часто снится корона на дурной
голове. У нас и сказки такие же.
Мудрый Барон реалист, а я сказочник, и
мы снимся друг другу.
Мия — крестница Барона, я уж
говорил. Теперь появился дополнительный штрих:
— Этих крестников у меня ребятишек
двадцать, наверное, накопилось. Ха-ха! Девушек, Совершенную и Жизнь, я обожаю,
они хорошие, русские очень.
— Не советские то есть?
— Да? Ха-ха!
Бежим, бежим, бежим! Пролетели два
часа, Барон торопится, на темно-зеленой круглой полянке стола остается огромная
белая куча бумаги, которую я навалил. Даже и не знаю, что чувствовать. Бумагу
не все стерпят!

Вот и вечер. Куда-то едем в гости за
150 километров от столицы. К владелице ресторана, в котором поет Жизнь. Муж
владелицы профессор Сорбонны, выпускник Суворовского училища. Шесть лет назад с
ним произошло несчастье — резко ослабел слух.
Чета живет в загородном домике, к
которому прилегает большой участок, в конце участка — самая настоящая
речка, маленькая и живая, в отличие от мутно-зеленой Сены, закованной со всех
сторон в камень и ограду.
Ужин, беседы, смех. Хожу по траве
босиком, здесь это удовольствие ощущается очень остро. Роскошь!
Профессор самолично полчаса варил
кофе: трижды нагревал турку на медленном огне. Я не пил, а Жизнь от кофе в
сочетании с коньяком — повело.
Дороги за пределами Парижа очень
хорошие, но платные. И дорого. Бензин в три раза дороже, чем у нас.
Останавливаться на обочине нельзя, палатку в лесу не поставишь, костер развести —
упаси боже!
Спрашиваю профессуру:
— Почему французы загорают в штанах?
— Да! Да! Целый день могут в одежде
пролежать под палящим солнцем. Берегут кое-что.
Оригинально, однако.
Французы доверчивы, как дети, и
эгоистичны, как дети. Их не учат ходить строем в детском саду и в школе. Им
просто нравится быть собой.
Это не я сказал. Профессор.
— Сегодня во Франции закрыли последнюю
шахту! — Профессор произнес это очень торжественно. — Все подобные
производства вынесены теперь за пределы страны!
Экономический колониализм. В России
будут гордиться полученными инвестициями.
А над головой летают огромные летучие
мыши, посвистывают из неухоженных речных зарослей ленивые птицы; шоколадный
торт на столе ставит в конце вечерней темы знак восклицания.
Люди прекрасны! Беседа легка и
по-русски умна! За рулем — пьяноватая Жизнь! Мия громко и правильно поет
на чужом языке “Полюшко-поле”.
Сценария жизни нет. Миг лепится к мигу
без перехода; жесткая склейка, автомонтаж. Накануне моего отъезда неожиданно
умерла двадцатилетняя дочь друга. Я нес гроб. Хожу по Парижу и нет-нет да и
вспомню бедняжку: может, нет никакой ценности в личной жизни? Парижане молятся
на нее, а вдруг зря? Лао Цзы называл живущих на земле “соломенными собаками” —
языческими куклами, предназначенными для ритуальной погибели. Не мы играем –
нами играют!!!
Ночь, ночь! Я иду к дому от метро,
сутенеры хватают за руки, останавливаться нельзя:
— На! Ноу! Мерси, мсье.
Кто играет всеми этими красками
вокруг: смерть или жизнь? Или это одно и то же?
Барон так трактует:
— Бог делает добро, досрочно прибирая
к себе тех, кого впереди ждут непосильные муки.
Я бы предпочел непосильную радость и
вот без этого вот — “прибирает”.
Жесткая склейка! Проявится всё: и
глупость, и талант, и ошибки. Кадр в кадр — жизнь в жизнь. Смысл бытия,
смысл небытия — какая разница?
Сны существуют отдельно от нас.
Утром на столе я нашел сладкую
шоколадную бяку: “Это завтрак”, — хлопоты Совершенной.
Оказалось, что я совершенно не
любопытен: хожу только туда, куда ведут, или встречаюсь по договоренности.
Информация из телевизора и информация
живого зеваки примерно одна: образ есть, а его “состояния” — нет! Что я
под этим подразумеваю? То, что замечает не мозг — чутье. Разницу в ауре.
Вчера с Профессором об этом говорили. Вот, представьте, один и тот же пейзаж,
одна точка съемки, одни условия освещения, а снимки — разные: один пейзаж
“дышит”, другой — нет. В этом-то и искусство! Роды состояния. Богатства то
есть.
Прогулки по Парижу бессмысленны.
Много, слишком всего много! И все одинаково хорошо, все достигло своего
верхнего предела. Мама моего московского друга, архитектор Е. Т., рассказала
мне как-то один важный урок из своей жизни:
“Знаете, в тридцатых годах мы, русские
студенты, попали в Европу. Ходили по музеям, наслаждались до ошеломления. Это
было что-то! Особенно Италия поразила. А с нами был наш профессор, очень
весомый ученый с мировым именем, кумир наш. Так вот, он всё молчал и ходил
хмурый. А однажды сказал: “Ценности, собранные в одну кучу, не восхищают”. Я на
всю жизнь запомнила его слова!”
Так что нечего шляться, дело надо
делать. А дел-то сегодня как раз и не предвидится. Значит придется шляться.
Тоска в чужом городе идеальна, она чиста, как химический реактив — это
просто свободное время.
Мой мозг видит дважды: то, что он
видит при помощи глаз, и то, что он видит, когда они закрыты. Я хотел бы
увидеть Париж с закрытыми глазами.
Русские здесь часто жалуются: не с кем
дружить, французы эгоистичны и чувствительны, заполночь без предупреждения с
винцом и шайкой-лейкой через порог не завалишься. И на глупость жалуются, — на
пустые, нет, на пустейшие, разговоры. Я не понимаю.
— А Француз? А Барон? Почему
пустейшие?
Смотрят, как на дурачка.
— О! Француз? Это высшее! Это не для
всех.
Хорошо быть наивным.
Сегодня понесем белье в прачечную.
Повелительница скомандует — когда. Мои родимые футболочки, совсем новые и
совсем еще чистые, купленные в городском “second hand”. Прачечная за углом.
Дома есть кран и мыло. Прачечная за углом. Футболки чистые. С Совершенной не
спорят. Прачечная за углом… Этот язык мне тоже пока не понятен.
Русские всегда стремятся слиться друг с другом, как
капельки,
образовать струю,
единый поток жизни. Французы не перемешиваются, их самосознание изначально
диссидентское по отношению к идее слияния в “общаке”. Они, как свободные тела в
космическом пространстве, их объединяет не “общий знаменатель”, не “такой же,
как я”, а всемирный закон тяготения — то есть, пустота между движущимися
объектами и необъяснимая сила
гравитации.
Чему учится эмигрант — это быть собой, бывая с
кем-то. Не “прилипать” самому — раз, и не “прилеплять” другого к себе, даже
если такое возможно, — два. Энергетическая корректность. Открытый космос. Без
чувства гравитации не определить ее меру — дистанцию для равновесия. И
останется тогда лишь “слипаться”: как воды, как пыль, как русская грязь в
колее. Увы, умение “слиться” здесь не покатит.
Совершенная сообщила:
— В понедельник идем в Версальский
театр, нас пригласили, Стефания играет главную роль. Письма Жорж Санд.
Что ж, у каждого есть своя причина
порадоваться. Я просиял – не зря вез костюм, рубашку, галстук и штиблеты. А то
все в кроссовках да в джинсах.Спасибо жене, наперед позаботилась. Женщины
вообще существа пророческие; самцы мыслят, мучительно одевают в слова и образы
то, что невидимо, а женщины — знают сразу. Как кошки. Как говорящие и очень
умные кошки. Ничего не попишешь, природа! Я где-то вычитал, что первые
несколько миллиардов лет на Земле присутствовали только женские клетки,
делились и не тужили. А потом эволюция взяла в руки кнут и создала
противоположность. И жизнь побежала от смерти прочь, не оглядываясь и
преображаясь в пути. Мы – после них. Я часто размышляю о том, что мужчина — это
сон женщины, который заставляет ее быть в самой лучшей своей форме: знать, не
думая.
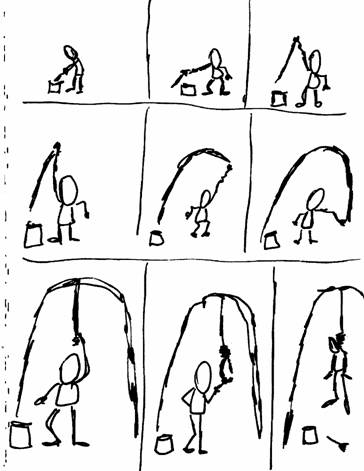
Случай нас выбирает или мы его ждем?
Искусство интриги жизни в том и заключается, чтобы загнать, заманить случайное
в вероятностный коридор и уж там ловить свою удачу. Случай планируется! Это
значит: рандеву, звонки, презентики, интервью и отдых в компании. Считается
всё. Интрига — это главный “процессор” колоссального живого городского
“компьютера”. От его скорости, его мощности, доступных ему паролей и связей
зависит всё. Тысячи, миллионы беличьих колес суеты вертятся вокруг; белки
должны работать и внутри своего собственного колеса, и уметь перепрыгивать на
ходу в соседние — и по горизонтали, и по вертикали. Тот, кто привык сидеть у
себя на завалинке, только пальцем у виска покрутит.
Случай, действительно, планируется. Но
всё останется бесполезным, если не готов ты сам. Мгновенно, в любой момент
времени стартовать сразу и без инерции, как НЛО. Это не формула успеха — это
условие выживания. Как у спецназовца.
Если случай перестанет тобою играть,
ты “остановишься на достигнутом”.
Готовность самодостаточна, но вне
русла реализации она обречена на деградацию. Не столько мы создаем возможности,
сколько они создают нас. Эту банальность я бы вытатуировал на какой-нибудь
извилине, отвечающей за четкость моего внутреннего зрения.
Кстати, у Совершенной в ванной комнате
напротив унитаза стационарно прикреплена бумага с подобным же заклятием.
Стихотворение Джозефа Киплинга, начинающееся словами: “Владей собой среди толпы
смятенной…” И так далее. Что ж, место удобное, взгяд невольно натыкается на
строчки. Совершенная знает, что делает. И думает, и знает; она — женщина
особенная: генератор удачи.
Мог бы я написать это вне Парижа? Не
знаю. А мог бы не написать? Конечно бы мог.
Маниакальных мыслей о немедленном
возвращении больше нет. Я никуда и не уезжал. Земля все-таки круглая. Она
всегда ничья, висит себе в летящей пустоте меж других земель и светил. Это
очень по-французски.
Сижу и я “сам в себе” в девичьей
комнатешке, работаю, ем шоколадную бяку и запиваю черным пакетным чаем, привезенным
из России. Здешние чаепийцы предпочитают травяную заварку и без сахара. Думаю,
или думаю, что думаю: дома для русского главное — это доказать свою правоту,
здесь — понять, в чем ты не прав.
Ребенок в утробе матери за девять
месяцев проживает эволюцию мира: от рыбки до человека. Что я успею за свои два
месяца, разрешенные визой, в утробе Парижа?
Сахалинский мой закадычный приятель
агитировал весной:
— Зачем тебе Париж? Приезжай лучше к
нам, знаешь, какая там воля, какие просторы для творческого человека!
Я ему талдычу мысль
проофессора-искусителя: мол, явления культуры в глуши не рождаются. Русская
“воля” бесплодна. А он всё о своём гнёт. Тогда я на хитрость пошел.
— Ты ведь тоже “творюга”, тоже пишешь.
Согласись, что творческий человек в своих исканиях напоминает сперматозоида.
— Ну.
— Так вот, братец, стремиться надо в
матку, а не в ж…
Надулся, обиделся; я не его
сахалинскую “волю” оскорбил, хуже — шлагбаум нарисовал. Хотя поступил, как мне
кажется, вполне по христиански: отнесся к другому так же, как к самому себе.
И вот сижу я внутри огромной чужой
утробы и по-прежнему не знаю: ой, где это я очутился? ой, зачем это всё?
Русская тоска — это определенность,
проверенный инструмент русской перспективы, а европейский оптимизм — это
лотерея. Тоска, конечно, человечнее, она круто замешана на жалости. На той
жалости, которая порождает жалких. В Европе на убогих не молятся.
За два месяца в Париже до живой
кондиции, до самостоятельного дыхания и требовательного “уа-уа!” просто не
дозреть. Возможен “выкидыш”. Тем более, что к интимным отношениям Париж меня и
не приглашал. Значит, что? Ха-ха! Значит, я — его непорочное зачатие! Мы пойдем
другим путем.
Вы можете себе представить десятый
этаж без предыдущих девяти? Правильно,
нет, поскольку закон роста — это логика последовательности. Процесс медленный,
потому что реальный. И внутри у человека — тоже свои этажи. Если ты родился и
вырос в Париже, то количество “этажей” снаружи будет равно их количеству во
внутреннем мире: где родился, там и пригодился — человек и место соотносятся,
как цемент и камень. Приезжие реинкарнируют — рождаются ещё раз или погибают,
что тоже справедливо. Самый плохой вариант — это когда снаружи этажей, скажем,
десять, а в тебе только три… И ты не погиб сразу. Будешь тогда мучиться,
достраивая недостающий промежуток ирреальными методами. Так ведь? И,
собственно, при чем тут Париж? Для резкости, для контраста? Это проблема
личная: “При чём?”
В России принято “сразить собеседника
наповал” — неожиданно шарахнуть по установившейся интеллектуальной или духовной
связи коварным сверхнапряжением. Ба-бах! Международную дружбу такой русский
способ не убивает, но бальзамирует.
А голуби здесь умеют сидеть на
проводах. А комаров вообще нет. А бомжи выглядят очень прилично и выступают с
разглагольствованиями в специальной бомжовской городской газете. А Совершенная
позвонила и произнесла: “Кричи ура! Громче! Княгиня готова с тобою встретиться.
Поедешь на юг поездом.” А мороженое делают только цветное и с ароматизаторами.
А Жизнь сказала: “Лакомство умягчает человека.” А еще я хотел бы написать книгу
о Бароне. Хорошо, если он согласится на цикл бесед. Надо будет запастись
цифровым диктофоном и добротой акушера.
Совершенная отбирала бельё для стирки
в прачечной. В доме она облазила каждый закоулочек, перетрогала все тряпки и
передвигала все сумки и ящики. Каждую вещь ее сверхсовершенный нос внимательно
обнюхивал. Особенный нос, дегустационный: фыр-фыр! — в стирку! Фыр! — туда же. Фы… — сойдет еще, можно оставить. Я
радовался, что постиранную (собственноручно, под краном) вчера пару носков
затырил в своем чемодане, контроль они бы не прошли. И еще я боялся что
внимание привлекут мои кроссовки, притопашие в Париж после Саян, но ничего,
обошлось. Или пожалела. Жить с таким
чувствительным носом, наверное, невыносимо: мир насквозь воняет! Даже и не
знаю, с кем сравнить: то ли фея, то ли Баба-Яга: “Фу! Фу! Русским духом
пахнет!”
Стирка — это стрессовая ситуация.
Женщины из стресса выходят, двигая мебель, или через двери магазина.
Совершенная выбрала второй вариант — мне купили майку без рукавов за десять с
копейками евро.
— Завтра идем на рок-концерт.
Я послушно напялил обнову, посмотрел в
зеркало на две точки проступающих сосков на груди и обреченно сказал:
— Ага.
Идем по улице. Спрашивает.
— Мы уже были в ресторане?
—Я не люблю рестораны.
Идем. Молчит, не реагирует.
— Мне не нравится атмосфера
ресторанов…
Как не слышит. Шагает лихо, даже
головы в мою сторону не поворачивает.
— Я боюсь ресторанов! Я не умею.
Молчит, как палач.
— Нет, не были.
Попал!
— Хорошо. Француз
просто мечтает посмотреть, как ты живых устриц будешь глотать.
Иду. Не отвечаю. Молчу, как палач.
Это дрессировка такая для русских:
спросят их о чем-то конкретном, — да или нет? — а они сразу лезут в объяснение
обстоятельств. Ни да, ни нет в результате. Ни бе, ни ме на французское ухо.

Жаловаться нехорошо, но все-таки
пожаловался: рядом с Мией работать невозможно — присутстве ребенка отшибает
творческий настрой в мозгах полностью. И еще долго потом в норму приходишь. Ну,
как если бы ремонтом часов или аптекарским взвешиванием заниматься, сидя на
трясущемся от скачки тарантасе. Творчество — это искусство замереть, а дети —
это удовольствие трястись и прыгать. Француз не хочет, чтобы он лично был
родителем. Его идеология выше: мол, люди вредят природе, их слишком много
наплодилось. Помочь можно воздержанием. Француз готов начать спасение мира с
себя. Как монах.
— Не “гвозди” человека глазами, здесь
это не принято, французы не выдерживают пристального взгляда, не любят, когда о
них узнают что-либо по глазам. Я специально изучала психологию. Они пугаются.
— Чаво?!
— Не гвозди. Человека. Глазами.
Она воткнула в меня свои немигающие
очи с той же легкостью, с какой крестьянские вилы входят в солому. Актрисы все
могут: она не мигала и не шевелилась примерно минуту. Чтобы я как следует, на
себе, прочувствовал заповедь: не гвозди ближнего своего.
А мне как раз понравилось.
Совершенная-Мальвина ухватила настроение Буратино мгновенно.
— Русские очень любят смотреть в глаза
друг другу. Выворачиваться. Как на исповеди.
И вдруг сменила обороты.
— Обожаю американцев! В глаза смотрят,
чтобы договориться, а не для того, чтобы вызнать.
Мне дали большое яблоко, я задвигал
челюстями и стал “гвоздить” фотографию на стене.
— Пойдешь со мной на радио?
— Нет.
Щелкнул замочек в двери. На вешалке
чистые футболки, каждая на отдельной вешалочке, в большой вазе — фрукты. Живи —
не хочу: “Дакорр!” — ладно, по нашему.
Барона я, видимо, “гвозданул”, очень
уж старался, хотел, как лучше. В следующий раз, когда приеду забирать свою
бумажную кучу с зеленого стола, прямо с порога в пол уставлюсь. Может,
растеплится.
Два звонка во второй половине дня.
Первый — Княгиня. Она очень благожелательна, готова встретиться, так что поедем
на Юг Франции поездом. Вослед звонку к Княгине почтой отправилось письмо с
диском, кассетой да несколькими камушками-талисманами, агатами, которые я
собственноручно добыл в недрах Урала и собственноручно же обработал.
Живые письма получать очень приятно.
Можно их трогать, хранить, жечь. Нюхать, наконец! Письмо не виртуально, оно
познается всеми известными органами чувств. Очень приятно получать письма! Зато
писать лень. Но это в России лень, а здесь — кайф. Почта работает, как часы.
Кассету, вложенную в письмо, адресату принесут в виде кассеты, а не в виде
пластмассовой крошки. И не затормозят послания. Где, например, три маленькие
кассетки, которые я послал из России во Францию еще полгода назад? Нигде.
— Да не волнуйся ты так, — утешает
меня Совершенная, — придут еще. Может, таможня смотрит, у них бывает.
Французы толерантны. Надо принимать
человека таким, каков он есть. Можно, конечно, избежать контакта, но если избежать
нельзя, — надо принимать с пониманием планку другого. И к русским они так же
терпимы, как к своим собачкам: мол, делают, что хотят и где хотят. Никто не
виноват!
Второй звонок — Президенту ассоциации
“Франция — Урал”. Договорились о встрече. Беличьи колеса парижской жизни
крутятся быстро. Не успел из колеса в колесо прыгнуть — запросто репутацию
отрезать может, а это здесь хуже, чем голову потерять.
Спасибо наставнице.
— В Америке по деловому поводу можно
звонить и настаивать до десяти раз: напоминать, уточнять, договариваться. А в
Париже — только два звонка. Если позвонишь в третий раз — вычеркнут назойливого
и неотесанного из списка участников жизни навсегда.
Без права на реабилитацию, как я
понимаю. С Княгиней и господином Президентом в лимит я уложился тик-в-тик. Они
ведь, наверное, и друг другу сообщают о “проколовшихся”, о персонах nongrate в
чувствительнейшей паутине загадочного мира, воспитанного по-французски.
— Войны давно не было, вот и маются со
своей утонченностью!
Это мне Жизнь глоток воздуха дала. В
наших автобусах так же: наорут люди друг на друга, натолкаются, а тот, кто шире
всех орал — самый гордый в конце, самый пан: полегчало ему. Нет, так нельзя.
Даже шутить. Желчь свою здесь лучше держать взаперти.
Пойду-ка я погуляю! Больше недели уже
в Париже, а не гулял еще ни разу. Надо себя заставлять. Топ-топ-топ…
Скоро Француз опять уедет в
костоломный поход, не сидится ему в уюте, русская причина вперед толкает: “А
пойду-ка я по свету, сам себе лихо поищу!” И девушка его русская — Совершенная.
Совершенная и Жизнь — парочка
уникальная. Сначала одну увез, прямо с фестиваля бардов, знаменитый музыкант, —
и деву, и ее скрипочку, и надежду на новую жизнь. Джазу она училась в Питере.
За собой потянула свою музыкальную “половинку” — Жизнь. Обе в Париж укатили.
Долго ли, коротко ли сказочка
сказывается, а уж двенадцать лет в иных землях минуло! Словами судьбу
пересказать — коротко получается, на десяток строк, на листочек беленький. А
без слов — только сам и слышишь, как время поет: “До-ре-ми…” Новых нот до сих
пор никто придумать не может.
Быть или не быть? Профессиональную
музыку делать, или матрешечный спектакль с песнями, за который платят? Легко
беглянкам не бывает. А, может, шутовской колпак на голову, да и — айда
по-серьезному! Трудно… Искусство во Франции — минное поле на небесах: и высоко
бегать приходится, и быстро, и осторожно, — ах! ах! — безоглядно, но
безошибочно; ошибешься разок — шлепнешься оземь навсегда, будешь продавцом
работать, семью кормить, о завтрашнем дне думать. Быть или не быть? Быт или не
быт? И правда, и ирония.
Бедные духом спасаются тем, что
говорят о политике. В России — все. Во Франции — только бедные духом.
А знаете, быть верным мужем в Париже
совсем не трудно. Иностранец мало кому нужен, если не брать в расчет
проституток и сутенеров. В отличие от обратного примера многострадальной моей
Руси. У нас-то иностранец, как овца в репьях, — весь опутан посторонним
вожделением.
Французы так помешаны на теме секса,
что сами своего же помешательства и боятся. Мужчины и женщины ведут себя по
отношению друг к другу, как опасные “полумассы”, как бдительные инженеры на
атомной электростанции; “стержни” опускаются в “реактор” не до взрыва, не до
катастрофы, а исключительно для получения сексуально-экологичной, чистой
энергии. В неограниченных количествах! Чужого на эту АЭС без специальной
подготовки и близко не подпустят.
Примитивность интернациональна. Гостей
из Франции обычно начинают в России расспрашивать о ценах-товарах,
билетах-местах, законах-правителях… И наоборот то же самое. Человек никому не
интересен. И нигде. Интересоваться жизнью — это ведь поверх границ и поверх
ограниченности. Найдешь человека, держи его: не руками, не штампом в паспорте,
не шушерой-мишурой — любовью своей держи! Тогда и он тебя удержит. На земле
люди друг друга учатся беречь по правилам, а Человек Человека — в себе носит.
Люблю повторять: люди и Человек — не одно и то же.
По улицам носятся мотоциклисты, машин
просто гимзит, жилых помещений на первых этажах нет — магазинчики, кафе,
обслуга. Париж — легенда! И муравьев-туристов, желающих поползать по
поверхности этого муравейника истории — предостаточно. Просто апофеоз
одиночества!
— Мы ВСЕ умрем, если не будет войны, —
сказала Жизнь.
Ах, Жизнь! Что же ты такое пророчишь?
Когда я размышляю о жизни, мне есть что тебе возразить, но когда я в ней
нахожусь — нечего. Как жить? То ли знать, не думая, то ли думать, не зная?
Вчера с Совершенной прощались на
местный лад: чмок! чмок! — в воздух. Мои волосы оказались в непосредственной близости
от ее носа. Думаю, она сообразила, что по утрам я причесываюсь вилкой; сегодня
же, без комментариев, принесла расческу и положила на видное место. Как это
тонко!
Француз прислал в подарок одну из
своих книжек, фотоальбом с текстами, называется «Гималаи», — роскошное цветное
издание. Француз стоит на краю скалы с велосипедом, а вокруг — небо и вечные
снега. Круто! В прямом смысле круто. С девятилетнего возраста Француз лазает по
скалам; ему нравится, чтобы сначала было очень трудно, а в конце очень высоко.
Книжек он навыпускал много: географические заметки, новеллы, рисунки,
фотографии, очерки, этнографические исследования. Он неутомим, как стахановец,
мечет и мечет из недр пространства удивительные образы земной жизни. Тексты я
прочитать не могу, а изображения чую — всюду есть то, что в России именуется
любовью к людям. Француз понимает, что за каждым из нас гонится петля судьбы, а
любовь - это крылья, можно играть на равных.
Француз спрашивал, не хочу ли я
полазить по французским скалам? Хочу, но опыта никакого. Слабый — обуза в
группе, а в экстремальных условиях — угроза для всех. Участники мероприятия
должны быть адекватны в уровне своей подготовки. Но Париж — не тайга, и его
пригороды — не якутская глушь. Поэтому пугаться и стесняться здесь нечего —
каждый делает, что может и что ему нравится. Один на стенку лезет, другой в
гамаке лежит (гамак Француз берет с собой для Совершенной).
Русский,отказываясь, получает от
своего отказа «чувство удовлетворения», удовольствие, которое французу понять
трудно: удовольствие — это удовольствие, а не отказ от него. Возможно,
коленопреклонная религия, которая была выбрана для земли русской тысячу лет
назад, заложила в людях странную изнанку — любить себя маленькими, печальными,
осознанно последними? Для управления народом — удобно, для управления
собственной жизнью — абсурд.
Мятежный Француз ищет свое смирение в
Гималаях, это — его Храм, и он ему поклоняется. Хороший храм: он не делает
своего паломника смиренным.
— Всякий раз туда сматывается, когда
ему плохо, — ворчит Совершенная.
«Сматываться» при поддержке разрешений
и документов, выданных министерством страны, очень удобно: раз-два-три — и ты
на месте. Во Франции кабинетные муки по-русски знают лишь те, кто столкнулся с
бюрократией посольства России. Передам, что слышал: «Хуже нет места! Чванливые,
невоспитанные, язык учить считают ниже своего достоинства, всячески унижают
людей вокруг себя и упиваются своим положением.» Ничего нового я не узнал о
своих, но было стыдно и горько за то, что им уже безразлично, где скотствовать,
дома или здесь. Деньги и должность делают русского человека социально опасным
идиотом.
О «новых русских» в Париже говорят,
как о блевотине: прилетят на ночку, просадят несколько тысяч долларов,
навыделываются перед своими же, привезенными барышнями и — опять доллары ковать
на русской наковальне.
Большие материальные возможности
требуют такого же большого воспитания. Иначе перекосит.До тошноты.
Перманентное состояние гражданской
войны в России — ключ к пониманию нашего «самоповешения». Брат шел на брата,
мысль уничтожала мысль, чувство истребляло чувство — это было всегда; видимая и
невидимая русская жизнь запрограммирована на самоуничтожение. Свой бьет своего
— это ведь и есть гражданская война. В России сегодя ее полный разгул, в русском
посольстве — осколки...
Беда в том, что когда тузит свой
своего, то к победе придет третий, — тот, кто натравил их друг на друга. А кто
«третий»?
Россия — это тоже Гималаи, место
обитания недосягаемых идеалов, опасных проблем, духовных пропастей и ям,
вульгарной свободы и доверчивых, как домашняя скотинка, людей. Россия позволяет
любить ее так, как богатый клиент того захочет. О чем это я? Ах да, во Франции
невидимой «гражданки» нет, и любить она себя заставляет так, как ей это
нравится.
Здесь артистам государство платит
пособие. Вы представляете?! Работников культуры (разумеется, не тех русских
чинуш, что присвоили себе это определение) здесь считают за людей! Даже
приезжих. Законы мира. Нам, бойцам, этого не понять.
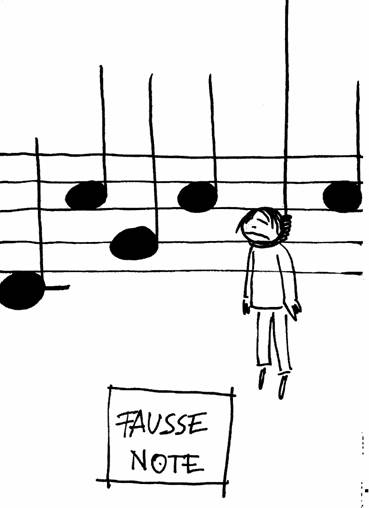
Изображение и музыка перевода не
требуют. Литератор — заложник самобытности. Ограниченный пространством своего
языка и его возможностями, он в другой среде беспомощен. Впрочем, идеи и мысли
переводимы почти без потерь, а вот на чувствах — крест. Чувства с языка на язык
при помощи слов не передаются, это мое убеждение.
— Зажарить тебе омлет? с пареной
морковкой? ешь пареную морковку? — задают обычный вопрос мои опекуны.
— Да не хочу я никакой омлет сейчас
есть! Я еще вчера шоколадной бякой объелся.
У них глаза на лоб: откуда такая агрессивность?
чем вызвана? Ни одна нация в мире так себя не ведет! Правда, специалисты по
психологии подмечали нечто подобное в поведении у детей и в моделях социального
общения в гетто.
Пора отвечать урок.
— Спасибо, нет.
— Вот тебе яблоко!
Сегодня приходил Эмигрант, русский,
тоже актер, мающийся в Париже вот уже два года. Живет концертами, ставит
спектакль, получает пособие артиста. У него есть профессиональная видеокамера и
монтажная студия. Через несколько дней увидимся у него дома, прильнем к живительному
экрану мощной электронной машины. Обменяемся всем, чем сможем.
Языка Эмигрант не постиг, не успел еще
выучить.
— Полная труба без этого!
Он из Одессы. Главным своим
достижением готов поделиться с каждым.
— Представляешь, в прошлом году здесь жара
была 42 градуса. Пятнадцать тысяч человек умерли от перегрева. А я одежду под
краном намочил и — на себя. Хоть бы хны работал! И друзьям позвонил, рассказал
о способе. До сих пор благодарят!
Эмигрант очень хороший, глаза у него
открытые, как круглосуточная служба спасения.
— Посмотри, какой ты красивый!
— Да бросьте вы, ребята.
Русские комплиментов боятся, тушуются,
они их не возвышают, а пригибают наоборот. Как под обстрелом. Лучше уж
пригнуться — чтобы не заметили, не засекли. Даже в очень больших русских людях
живет этот гоголевско-чеховский «маленький человек», живет, как паразит, и
трудно от него избавиться.
Да, самый опасный враг в тебе самом:
это — плебейство. Неисправимая данность, которую ни темными очками, ни красивой
машиной не закроешь. Плебей может захохотать там, где уместна лишь улыбка.
Плебей позвонит трижды. Он, как вьюнок, запросто может начать подниматься по
стволу чужой жизни. Плебей огромен и многолик. Когда в России произносят
оскоминное слово «духовность», то за ним подразумевается, я полагаю, жажда
антиплебейства; в каждом человеке должна жить особая зрячая сила, позволяющая
НЕ позволять лишнего. Аристократ преодолевает высоту этого «не» в одиночку и с
незамутненным разумом, а унылые толпы веруют слепо. В одиночку идут к Богу,
толпой — к убожеству.
Ахти! Щас новую маечку надену! У метро
«Pigalle» меня подберут и поведут на рок-концерт. Приехал с группой какой-то
Дидье, бельгиец, Совершенная желает засвидетельствовать ему свое рок-почтение.
Я согласился на поход, потому что мне обещали дать специальные затычки для
ушей. У нас в кузнечно-прессовом производстве рабочие такими штуками
пользуются. Беруши называются — береги уши! С буржуйскими рок-децибеллами шутки
не шутят, запределье у молодежи в большом почете.
Пару строк черкну про бабушку Мии —
про неугомонный жизнерадостный тайфунчик из русской деревни. Не так давно она
приезжала в Париж повидать дочку с внучкой.
Жизнь хохочет:
— Привезла, ты не представляешь, землю
со своего огорода, в платочке, как положено, высыпала на газон, а когда обратно
надумала двигаться — собрала свою землю обратно, домой потащила, опять в
огороде у себя высыпала!
Париж бабушке страх как не понравился:
«Что это за город? Углов нет, дома стоят, как попало!» Русский человек понимать
все любит. А Париж не понимать — принимать надо.
Жизни выдали сегодя «Свидетельство о
рождении» на французском языке — бумагу, удостоверяющую отныне, что она
француженка. И подпись президента Франции стоит, настоящая, не факсимиле.
Затычки для ушей очень пригодились.
Дидье со своей группой пели в ночном клубе. На входе меня обыскали, нет ли
бомбы. Зал для представлений расположен в глубоком подвале, людно,
охранники-негры непрерывно «прошивают» смирно стоящую человеческую гущу.
Потолок, сцена и пол черные, куски стен — красные. Мрак озаряют вспышки
иллюминации в такт со звуком чудовищной силы. На сцене беснуются музыканты,
орут, скачут, превосходно играют. А зал стоит, как вкопанный, сидячих мест нет
ни одного, все стоят, через два часа некоторые завелись — стали подрыгивать
правой ножкой. Все молодые и все трезвые. Что-то тут не так. Я выбрал
блюстителя-негра покрупнее, стоящего у стены, и сел на пол рядом.
В финале спектакля, заполночь, часть
клубного населения распрыгалась, а уже всё — финита ля концертио!
Совершенная во время танцев вспотела.
Это придало уверенности: и боги потеют!
Чтобы драма человеческой жизни могла
успешно продвигаться в своей реальности, ей никак нельзя обойтись без двух
театров, без приспособлений для особого — нравственного! — равновесия общества:
театра комедии и театра трагедии. Комедию мы видим с избытком, когда читаем
газеты или смотрим на политиков по телевизору. А трагедия, мне кажется, — это
культура рока и есть: крик, надрыв, всполохи и пот, мрак и опасность террора.
Именно молодежная культура заняла место трагедийного помоста. Я предполагаю, а
не утверждаю. Такая мысль.
Совершенная раздала бельгийским
музыкантам значки с изображением Ленина, которые я грудой привез в качестве
дурацих сувениров. Нацепили и щеголяли в них весь вечер.
Бен, юный барабанщик, объяснил: «Рок
похож по своему движению на африканскую музыку. Или на поведение баскетболиста
в игре: ускорения, стремительные углы в сторону, пассы... Нельзя играть рок,
как таран, как солдатскую выправку!»
Очень образно! Хороший мальчик. Всю
обратную дорогу в метро размахивал руками и, казалось, обихаживал Совершенную.
Оказалось, все наоборот: это она его сегодня завербовала в свою джаз группу
«Britchka». Бричка.
— Лет пятнадцать на рок-концертах не
была. Очень хорошие ребята из Бельгии, не могла отказаться от приглашения. Тебе
понравилось?
Понравилось. Я даже Бену попросил
перевести:
— Как в сельском клубе.
Он одарил меня восхищенным взглядом
соратника и знатока. Еще бы! Я четыре с лишним часа подпирал стенку рядом с охранником.
Радовался, в общем-то, но иногда вспоминал одну из своих домашних заготовок:
только слабая мысль и недолгое чувство целиком выражаются в крике.
На концерт приходила еще
девушка-светлячок из «Парижского курьера». Синеглазая. Век бы в такие глазки
смотреться! Светлейшая душа. Русских все-таки за версту видать. И обручальное
кольцо она на правой носит, как и положено в нашей традиции. Поглядел я
мимоходом в эту синь-бирюсу и опять затосковал: домой хочу — мой рок-н-ролл
там.
Обычно мы охотно сравниваем с собой
то, что заведомо приносит выигрыш, и мы тогда воображаем себя судьями, мерилом
и победителем. Наивно чрезвычайно, но действует на поддержку самолюбия
исправно. Если выигрыша нет, то говорим: «Это не для меня, мне это не
подходит.»
Непонятная, необъяснимая тяга к России
у Аник, нянечки Мии. Аник всю жизнь живет в Париже, но дорог не знает, ездит
по-клоунски: в любое место — через центр города, здесь расположен ее дом,
понятная начальная точка отсчета. Maison. Она необучаема. В детстве Аник попала в тяжелую
автокатастрофу и в девятилетнем возрасте полностью потеряла память. Родители
погибли вместе с памятью. Что было до трагедии — пришлось просто учить,
запоминать заново, как страницы из учебника, свою собственную биографию. Аник
лет сорок, сорок пять, она отзывчива и очень смешлива. Каждый год ездит в Питер
«учить русскую жизнь» и мечтает двинуть по России куда-нибудь дальше, но боится
— нужен провожатый. От всего русского она просто в восторге!
Я высказал предположение, что, подобно
телам, которые ищут на земле «свою половину», наши души тоже не целые — надо
много где побывать и много с кем и с чем пожить «душа в душу», чтобы собрать
невидимые частички воедино. Конструктор «сделай себя сам» особый — каждый раз
надо входить во внутренний мир всего сущего. Душа не живет снаружи. А пропуск
внутрь — твое необъяснимое стремление, одержимость. Любовь, наверное. Не только
к другому человеку, но и к иным мирам.
Аник уже год читает «12 стульев» на
русском языке, ни разу не улыбнулась, судя по выражению лица — читает, скорее,
курс прикладной математики. Здоровенный кусок души этой женщины находится в
России. Она сравнивает себя с русской жизнью: все подходит! И внушенное
прошлое, и строчки дорог без знаков препинания...
Успеть собрать самого себя в невидимом
мире важнее, чем найти свою половинку на земле. Аник одинока. У нее дома есть
мощный компьютер, но она не умеет им пользоваться. Аник очень одинока. Она
знает это, но не помнит об этом.
— Есть такая теория у французов... —
задумчиво отреагировала на мою речь Жизнь. И неожиданно переменила тему. —
Сядешь сегодня не ко мне в машину, к Аник, а то она очень боится ездить одна.
Чуть-чего — хватайся за руль.
На том и покатились.
Залез в махонькую сумочку, которую
всегда за собою таскаю, а там — наклеечка от вчерашних рок-бельгийцев. Фетишизм
развит, но в моем окружении ему не служат: вещицы, сувениры, значки, кассеты
свободно и весело перемещаются от человека к человеку — легко приходят и легко
уходят. Обладать скучно, а дарить очень приятно. Понимаете? Если дарящих в
обществе больше, чем обладающих, то это — рай. Ну, не сам, может, рай, а,
скажем, его преддверие — детский сад для ангелов. С рок-наклейкой на дверях
средней группы.
Раньше, чтобы культ превратился в
явление культуры, требовались века. Сегодня любой культ «оседает» до потешного
значка гораздо быстрее. Вместе со скоростью жизни растет и скорость смерти. Все
стягивается в точку немыслимой плотности — в миг бытия. Миг! Бесконечность
беспомощна и уязвима, потому что она зависит от времени. А миг вечен, времени в
точке нет. Как у Бога. Вечный перформанс, здесь и сейчас: и трагедия, и
комедия, и культ, и его насмешка, и бешеный крик, и затычки в ушах. Богу
безразлично. Жизнь — это и есть Бог, много жизни — много Бога.
Что правда, то правда. Француз так и
надписал мне свою книгу: «Жизнь прожить — не горы перейти».
Гуляю мало. Пишу мысли. Если начну
гулять много — начну писать чувства. Так и в загул недолго отправиться. Но
Барон сегодня по телефону очень настаивал:
— Лёвочка! Обязательно гуляйте,
смотрите на оформление, на ручки дверей, на окна старых домов. Остановитесь
где-нибудь на углу, глаза закройте, и вы сразу очутитесь в каком-то другом
времени, в истории! Это удивительно!
Ага. Где это он углы в Париже нашел? И
гуляют здесь все бегом, и глаза не закрывают: история есть, но ее — нет. И я
теперь знаю почему: потому что мадам История не позаботилась об углах. Углах
истории, об которые лоб расшибают, таких, как в России, например. Язвлю,
конечно.
Я извинился перед Бароном за слишком
большую кучу моих бумаг на его столе. Французы народ тактичный.
— Немножко множко, — сказал он. — Ваша
книжка очень понравилась моей жене, — сказал он. — Я показал ваши работы
профессору музыки Кацу, — сказал он.
Хорошо. Спасибо. Язык можно выучить,
чужому воспитанию — только подражать.
— Благодарю вас за проявленное ко мне
участие. До свидания.
— До свидания. Спасибо за звонок.
До чего ж это удобно, когда тебя
опекают: внутри себя ты живешь собственной жизнью, а снаружи — просто
подчиняешься. Я теперь понимаю тоску советских людей по «сильной руке». Правда,
при советской власти она до того «сильной» была, что и в голову, и в душу
лезла. Тьфу-тьфу-тьфу, в России опять к тому идет. Нет у нас своей непрерывной
истории, нет самостоятельного общественного мнения, зато углов сколько
хочешь... Сильная рука — это ведь не полицейская сила, а слой нажитой культуры,
в которой даже шпана ведет себя смирно. Русские не понимают: для них
«подчинять» и «подчиняться» почти неразличимы — это опять становится практикой
жизни. Салтыков-Щедрин вечен! Скажет русский: «А что делать?» — И это у него не
вопрос — это ответ! Чохом вдруг уравняется все и внутри, и снаружи — плохая у
русского «мембрана» между мирами: в человека вливается и выливается любое
содержание почти беспрепятственно. Русская открытость. Русская тирания.
Для сравнения: 2 батона хлеба, литр
молока, 250 граммов сыра, 250 граммов масла, маленький йогурт и салат из
моркови — итого 11 евро. Почти четыреста рубчиков по-нашему. Зря я не взял
рублевых пакетиков с въетнамской сушеной лапшой. Родня отговорила.
Возвращаюсь из магазина — нет
обручального кольца на руке, забыл надеть. А где оно?! Вспомнил: наверное,
вместе с крошками смахнул со стола в мусорный мешочек. Хорошо не выбросил.
Полез в отходы, нашел! Да-а-а... Я этот знак так прочитаю: наше родное русское
золотце в Париже запросто может превратиться в мусор. Демоны не дремлют. Люди в
Париже добрые, а духи злые. Расслабился, забыл, что сплю, что во сне правил
нет.
Французская умница спрашивает:
— Почему в России не могут выйти
из..., э-э..., из одного и того же?
Объясняю. В школе училась? Училась.
Физику помнишь? Чуть-чуть. Хорошо. Знаешь такой опыт: магнит, лист бумаги и
железные опилки? Опилки всегда по невидимым силовым линиям размещаются.
Потрясем опилки, устроим им «революционный переворот»! И что? Опилки
перемешались, а силовые линии — те же. Картина от потрясений не изменится
никогда. Поняла?
— О! Так мне Россию еще никто не
рассказывал! Ты - опилка?
— Да.
— А силовые линии, магнит?
— Россия это, демон проклятый!
— Родина?!
— Нет, демон.
— А родина тогда где?
— Родину русские внутри себя таскают.
Она у них там больше и лучше, чем снаружи. И в безопасности.
— О-ля-ля!

Ветер дует, семя носит. Застрянет
такое чудо в какой-нибудь щели на крыше, да и прорастет. Всё! Назад ходу не
будет; расти, друг, набирай себя самого из того, что есть под ногами. Умиляются
прохожие: ах, какой герой под облаками вырос! на камне голом, на карнизе! да
как же смог-то?! Многие в Париже таким «самосевом» по чердакам да заброшенным
домам приживаются. В России власти не трогают бурьяном да мхом поросшие крыши,
здесь — не трогают художников. Какая у нации блажь, такие и блаженные. Одним —
запустение, другим — искусство. Блаженным во Франции подают охотно, поскольку
хлеб свой они отрабатывают профессионально, а не вымогают милостыню. Хотя тоже
у церквей виться любят.
Во Франции художников столько же,
сколько в России нищих.
Написанное в дневнике постепенно
создает пространство для контекста, чтобы можно было вслух говорить об одном,
простом, а молча понимать другое. Чтобы можно было употреблять слова, а смысл
прятать в паузы между ними. Потому что контекст — это возможность поступка, это
его нереализованная потенция. Как у непроснувшегося семени.
Париж — город, контекст которого
составляют его «непроснувшиеся». А проснувшиеся — переходят в текст: в историю,
в оформленные тиражи и на камне высеченные имена. Конька-Горбунка ни у кого
рядом нет. Приедет очередной Ванька в Париж: бух в котёл! — и там сварился.
Сказочная концовка получается у одного из тысяч. Но это уже контекст божеский,
его даже молчанием не выразишь. Даже самым своим последним молчанием.
Все кошки серы. Как узнать:
обыкновенный кот встретился, или кот-баюн? По плодам узнаете их... Двенадцать
лет непрерывного мурлыкания под гитару, гармошку и скрипку — этот супермарафон
две кысоньки из России пробежали, не сломавшись. Их в Париже знают, работа
есть. «Работа есть» — это значит: я делаю, что хочу, и мне за это платят.
Именно в этом состоит превосходство состоявшегося парижского «баюна» над прочей
кошачьей одноцветностью.
В жилые помещения налетают противные
мелкие мухи. Я вздрагиваю по привычке; дома, в конце восьмидесятых, в начале перестройки
наши мухи вдруг стали кусаться, как озверелые. А эти только жужжат да кружатся
роем.
— Здешние мухи сытые.
Жизнь права, эти твари даже на тухлый
сыр не садятся. Капитализм!
Дома сегодня День города, в Париже —
просто день. С разницей в три часа, если ориентироваться по кругу циферблата, и
с бесконечной дистанцией — если смотреть на часы истории. Часы истории не круг
— это, скорее, ниточка, на которую нанизаны бусинки имен и событий. Дома
ниточка-то есть, а бусинок — одна-две и обчелся. Время в провинции бежит по
узкому кругу и поэтому ежедневно не украшается. Зачем? Ведь завтра будет то же,
что и вчера... День города — раз в году, остальное, как ночь. Или я не прав?
Зло пишу о России, и желчная правда
ликует. Нехорошо это, неправильно. России все равно: это место предназначено
для тоски и проклятий; для меня — не все равно: я не люблю желчь, она горькая,
от нее изжога. Всякая песня о Родине в исполнении земляков — изжога. Почему? И
кому она нужна, эта горечь?
Блуждает без пастыря племя мое. Что же
тянет меня в эту мутную сторону, в беспорядок и хаос, и бедность, и удаль воров
ненасытных, и в эти слащавые слезы, и в это вранье? Воля! Воля!!! Примитивная и
бесконечная, как животный инстинкт: воля! В этом слове для русского сердца
слились воедино: и тюрьма, и сума, и свобода. Равенство, братство и счастье —
воля! Это состояние «шири» в тебе, и широкий простор вне тебя; можно бежать и
бежать, неизвестно куда, непонятно зачем — прирастать горизонтом. Культура
«шири» неглубока, но как глубоки ее узники! Вот чего нет в Париже. Воли здесь
нет, русской воли, безразмерности бытия. Русская душа — птичка, не всякая
способна жить в клетке правил. Да еще и петь не по нашему, и птенцов выводить,
подражая чужому гнезду. Впрочем, это уже разговор не о русской воле, а о ее
сестрице — долюшке русской. Бежать! Бежать!!! В том тебе обе помогут: и воля, и
доля.
Русская душа — цыганка: гадалка,
странница, дитя кочевого мытарства меж адом и раем. Вот она, волюшка-то, как
без нее обойдешься? Русскую волю забыть невозможно: кто пробовал — знает. Ну, а
кто отпал, отвалился от грязной, невежливой родины-мамки, тот молодец на свой
лад, тот уже не вернется. Бежать, бежать!!! Не эмигранты — это русская воля
сама по миру семенами разбежалась. Почти все беглецы погибают. Но иные все ж
прорастут и порадуют мир русским дивом.
И в Москве воли нет. Не русская она.
Приеду — не могу, задыхаюсь, будто у меня к известным физическим лёгким
приделаны еще и невидимые: «Знаете, говорю, у меня здесь душа не дышит!» — «И
что у тебя здесь не дышит?!» Душа, братцы, душа! Из другого она места, из
другого теста, — ей беззаконие нравится, деревенская лень, други мякинные.
Москва быстрая, Москва хитрая, в ней для приезжего дурачка «кислороду мало»,
здесь в добрый человеческий оазис не всяк попадет. Бежать! Отовсюду бежать!
Только воля позволяет это делать непрерывно. Без необузданной воли будешь
просто работать, как цирковая лошадь: день за днем, круг за кругом. Еда-работа,
работа-еда, иногда перерыв: на деток, на бога, на водку. Запрягут — не убежишь.
Запад на русскую волю петельку нынче
накидывает. Уже затянулась.
Господи, до чего же хорошо было мне
взять дома велосипед и ледяным апрелем, ночью отправиться просто так, без цели,
для прогулки. Падал на лед, виртуозно матерился, мерз, а потом вдруг выплыла
Луна и ярко осветила ледяные колеи дороги, пятнистые поля, зазубринки леса:
воля! счастье! Ты ничей, потому что природа в тебе соотносится с вечной и дикой
гармонией мира. Глупо и хорошо.
Русский простор «трехэтажный», как
мат: на земле, в голове и в душе.
... Велосипед в подвале дома Жизни я
осмотрел, годится, ездить можно. Но зачем? Людей кишмя кишит, упасть русскому
человеку негде, слов заветных не вымолвить.
Медведя в зоопарке видели, как он по
клетке туда-сюда шатается? Гипокинез, жажда движения. В чужом городе это так же
актуально, как в клетке: силы есть, а бежать — некуда. Впрочем, мысль о воле —
уже воля. Это и в Париже, и в Москве помогает.
Испытание сытостью страшнее испытания
голодом. Голод невольно заставляет тебя развиваться, а сытый, чтобы не
деградировать, вынужден сам искать свой «голод». Деградация — Дамоклов меч,
занесенный над просвещенным человечеством. Воля иного порядка, воля Бога. И
надо опять куда-то двигаться, заставлять себя двигаться, бежать, бежать: в иное
место, или в иного себя...
Мужчины и женщины во Франции
непрерывно «обдумывают» существующую или
потенциальную свою пару. Мне их жаль. Разум бесполый, и он в этом деле не
помощник.
— Есть французы, которые в хлебе едят
только мякиш, а есть другие французы, которые всю жизнь едят только корочки.
Идеальная пара — это когда одной булки хватает на двоих. Это счастье.
Жизнь кормит меня обедом, я
уплетаю за обе щеки все без разбору. Мия ест только мякиш.
Жизнь обдумывает свое личное прошлое,
которое удалось не по плану иллюзий. Теперь она просит меня помочь ей
«обдумать» будущее.
— Выше физики пола нет, значит, нет и
выбора.
— О! Так я еще никогда не смотрела!
Это надо обдумать.
Русская воля — это русская вольница.
Невест крали, на колени падали, родители прощали. Кража и покаяние, грех и
прощение — замшелый фундамент души русской.
Жизни горько за мужа, отца Мии,
которого они обе любят, но избыток русской воли, свободы и силы обжёг его, и он
удалился.
— Он, видите ли, должен был сначала
спросить у своих родителей: хотят ли они внучку? А он не спросил.
Плохо «украл» — не простила Жизнь.
Плохо «спросил» — не простили родители.
«Легка свобода в клетке правил!» —
стишок я однажды написал, начав такими словами. Жизнь выломала из этой клетки несколько
прутьев, вылетела, встретила своего пернатого, почирикали — две разных души
мучительным узлом завязали. А пернатый вдруг — шнырь обратно в клетку! — и
прутья на место приделал. Уехал, у кузины живет. Обиду свою на морском бережку
теперь «обдумывает».
Мне кажется, что с разумом следует
поступать так же вмеру и здраво, как с желудком: все, что внутрь попало, будет
перевариваться. Да не всё переварится. Поэтому любовь «брать в голову» надо
очень осторожно, а лучше и вовсе не делать этого.
Разлука сближает любящих людей
почему-то больше, чем совместная реальность. Я бы согласился торжественно
вставать и снимать шляпу, если бы
существовал Всемирный Гимн Одиночеству. Полноценно любить, находясь в
творческом движении и в свободном пространстве не получится, если держать друг
дружку в объятиях, как в клинче. Даже взявшись за руки — не получится. Скорость
не позволит. Условие полета — одиночество. В пару годится лишь такой же:
одинокий и устремленный. Неподвижных любящих объединяет и постель, а крылатых она
калечит.
— Одиночество мужчины и женщины
понимают по-разному.
— Гнезда вразнобой вьют: одни на небе,
другие на земле?
— Да.
Словами можно играть, как угодно.
Молчанием играть труднее. Жизнь замолчала, молчу и я.
Аник за рулем. Она проехала подряд три
«кирпича» — въезд запрещен, потом, не торопясь, развернулась через две сплошные
белые полосы на широкую шальную автостраду и неожиданно остановилась посреди
скоростного потока машин, чтобы изучить карту; вместо аварийной сигнализации
она включила левый «поворотник» и так стояла минут пять, потом врубила задний
ход и двинула вспять сквозь летящий, свистящий и шуршащий поток скоростного
железа метров триста, пока не узрела нужную боковую улочку, куда и свернула
опять же против всяких правил, приговаривая шепотом: «Пардон-пардон-пардон...»
Когда напряжение маневра спало, Аник произнесла радостно, ни к кому не
обращаясь, и очень громко: «Pardon!» С нами в машине находился ребенок, Мия. Я
рассказал об этом ужасе ее маме.
— Почему никто не возмутился, не орал,
не сигналил? Ни единого возмущения, ни единой отрицательной эмоции?!
— Пример со здешними мухами помнишь?
Французы на дороге тоже, как мухи. Не кусаются. Они сытые.
Честно признаюсь, я ведь так и не
погулял еще по Парижу, не испытал желания заглянуть в «Мулен Руж», не съездил
на Монмартр, Лувр видел лишь из окна городского автобуса. Наблюдаю быт, живу,
продолжаю писать мысли. Я вижу СВОЙ Париж. Кто-то из здешних назвал меня
«туристом», было очень неприятно. Русская воля разбрасывает по миру странников,
а не туристов. Надо бы сообщить об этом французам — нехай обдумывают.
Жизнь обитает в тихом райончике для
средних буржуа, с одно-и двухэтажными домами. Участки строго разделены и
ухожены, где вздумается могут гулять только кошки. Базар совсем рядом, работает
до полудня, потом лотки сворачивают за отсутствием покупателей. Дети, как в
заправской деревне, знают друг друга и весело здороваются на улицах при
встрече; время здесь течет вязко, медленно, вообще, атмосфера очень похожа на
русский вариант: вместо жизни — ожидание жизни. Но это впечатление обманчиво.
Французы здесь расслабляются, отдыхают, залегают на дно своих газончиков, как
акулы после охоты. У каждого машина или две, сотовый телефон или два, любовники
и любовницы, дети и хобби. Даже во время отдыха включена готовность номер один:
немедленно ехать, взрывоподобно говорить, красиво целоваться.
Мие невозможно объяснить, как выглядит
большая рыба. На базаре — только разделанные тушки. Хвост скумбрии величиной с
говяжью ногу.
Природа предельно окультурена, зажата
в тиски дизайна и эстетики. Дикие утки и дикие выдры берут хлеб из рук.
— Какая красивая фотография! —
восклицает Жизнь, показывая рукой на проходящий по мутно-зеленым водам речной
трамвайчик.
— Здесь всё фотография. Любой пейзаж
до конца продуман и закончен.
— Точно! Фотографу делать нечего, все
уже сделано до него.
Спасибо, Жизнь. Ты очень умная
женщина. Я еще больше укрепился в своем упрямстве аскета: любопытство
отказывается «облизывать» то, что давно зализано взглядами зевак. Всякий духовный
искатель поймет каприз: взгляд человеческий должен проникать в сущность того,
на чем он сфокусирован, а не смаковать бесплодную поверхность этой сущности.
Иначе «энергетический педераст» какой-то получается. Фу.
А в прачечной стоит ящик-автомат, который
принимает даже бумажные деньги, однако сдачу дает мелочью.
А плата за малюсенькую квартирку
Совершенной — 500 евро в месяц.
А расизм, говорят, в Париже есть, и
русские — самые ярые в этом деле. Странно. Негров вокруг очень много, и они мне
нравятся. Жизнь, смеясь, объяснила: «У негров многобожие, и они тебе близки,
потому что ты тоже язычник, дикарь, играющий в разный смысл...»
А «левых» компьютеров и пиратских
программ полно. Нигде ими открыто не торгуют, но все ими пользуются. Девочка из
русской редакции пожаловалась: «Настоящий «Fotoshop» стоит почти тысячу евро!»,
— и глазки от обиды заблестели.
А из открытого окна я слышу, как над
Парижем гудят колокола: «Бум-мммм!» Это трудится синагога. И не надо никакого
переводчика. Колокол напоминает: не спи! вдарит жизнь и по тебе, так и ты скажи
тогда: «Бум-ммм!» — тоже кому-нибудь напомнишь: не спи! О чем-то таком, что
живет поверх языков и крыш.
А прошлой ночью Совершенная и Жизнь
играли русскую (а-ля русскую, конечно) музыку для самых избранных — в замке,
где заседали члены Лионского клуба. Жизнь упилась шампанским: «Не пью, но надо,
а то в следующий раз могут и не пригласить. И где тогда деньги брать?»
А что я увезу в Россию? То, что, как
мирро, накапает кириллицей с иконного лика парижских иллюзий на эту бумагу.
Париж позволяет играть содержанием жизни, но парижане больше любят играть ее
формами. Здесь я понял феномен параллельности миров: мы существуем в одном
месте и в одном времени, но мы не существуем друг для друга.
А еще мне здесь снятся немые сны, в
которых никто не говорит. Цветные и молчаливые. Например, ритуальное убийство в
племени чернокожих.
А образ блаженной Аник, которую тянет
на Север, в Россию, как божью перелетную птаху, таит за собой русский шифр:
катастрофы стирают прошлое, и любое «новое прошлое» людям можно внушить. Катастрофы порождают верующих, умение их
обойти — веру.
Женщина сменила прическу. Через
несколько часов общения не выдержала, сама спросила:
— Ты заметил, что я постриглась?
Трудное положение. Хотел сказать
женщине комплимент, а сказал правду.
— Нет.
— Зря. Многие этим здесь живут.
Я понимаю. Женщина наряжается в
обнову, и в ней меняется всё: осанка, темперамент, тембр голоса, взгляд, манера
держаться и — даже характер самого обаяния, аура! Форма способна преобразовать
содержание: «Узнай меня!» Женщины прихотливо меняют свои образы в зависимости
от моды. Можно вообще не узнать человека. Однажды мы с девой после года разлуки
свидание в кафе назначили, час ждали, сидя рядышком, в метре, — не идентифицировались.
Казус, водевильная ситуация, а ничего не попишешь: женщина желает преображаться
воистину неузнаваемо — вот и трудно узнать.
Многие ведь людей сначала «чуют», а уж
только потом «узнают». Чутье у мужчин должно быть развито хорошо, не как у меня.
Кругом опасности!
Я без стеснения, в упор разглядываю
новую стрижку Совершенной.
— Я хоть изменилась?
— Нет.
Русская суть наособицу, «глубинка»
внутри каждого «я» свой собственный ландшафт имеет, и мода — всего лишь погода
над ним.
Аник тянет пройти сквозь пучину
русского духа так же, как Француза через Гималаи. Россия — бурлящая
ментальность меж Востоком и Западом. Культура пучины — эхо европейской, душа ее
— тень венценосной Шамбалы. Страна-эхо, страна-тень!
Да, да: воля, сиречь вольница. Такое возможно
только в период «бурления», и всем нам, как нации, жаль с ним расставаться.
Русскую историю постоянно «подогревают», поэтому «точка кипения» всегда очень
близко. В Париже вольницы нет и быть не может. Цивилизационная неволя. Здесь,
скорее, «закипает» сам человек, опасно для себя и безопасно для страны. Амбиции
правят: кому-то милее история личная, кому-то имперская. Вольному воля.
Фигу ел! Что-то навроде небольшой
сладкой свеклы с мелкими семечками внутри: мягко и вкусно.
— Мы как-то на гастролях домик
снимали, перед нашей дверью росло фиговое дерево, плодов на нем было, не
сосчитать сколько!
— До фига?
— Ха-ха! До фига! А утром я метлой
сгребала упавшие. Каждое утро толстенным слоем нападывали. Не успеешь сгрести
до сильного солнца, они все скиснут, не пройдешь, такое получится...
— Фигня?
— Смешно. Точно, фигня! И еще их с
маслом можно есть, наверное. Ха-ха!
Жизнь вставила между указательным и
средним пальцами темно-фиолетовый плод и сжала руку в кулачок. Получилась забавная
дуля. Жизнь протянула руку к небесам, где, урча, порхали частные вертолетики, и
хохотнула еще раз:
— Фиг вам!
Интересно, есть ли у насекомых
психология? Наверное, есть. Поскольку есть поведение, должна быть и психология.
Домашние насекомые прячутся от людей, потому что не владеют их языком, даже не
понимают его, во всяком случае, понимающие животинки близки к людям, они могут
им служить. Как собаки, например.
Я отскакиваю от окна в комнате, когда
соседи выходят убирать свой бетонный дворик-пятачок. Мне нечего им сказать. И
хуже всего — мне не дано их услышать. Русская психология: невидимость,
незаметность — лучший способ выживания. Это в крови. Поскольку вся жизнь в
России — это преследование: ревизии, проверки, доказательства, штрафы, обязательная
служба, подозрительность... Уставшие становятся невидимками: пьяными, жалкими,
до омертвения законопослушными в среде беззакония. Иные спасаются бегством.
Русская школа самоисчезновения — лучшая школа в мире!
В Париже тебя никто не преследует,
наоборот, люди здесь неустанно приветствуют друг друга. А русскому кажется —
гонятся!
Соседка вывела на свое бетонное тьфу
двух жирномясых собачек. По делу. Она кричит мне в пустое раскрытое окно:
«Бонжу-ур!» Я прячусь в углу, затаившись. От собачьих отходов развелись мухи, и
они меня достали. Я теперь недоброжелательный. Богатырская сила — желчь! —
наполняет меня священным негодованием.
Патронессы мои снисходительны: «Ты
слишком все утрируешь.» Верно. Они не утрируют, они ведь прожили во Франции уже
свыше десятка лет и стали французами. Сначала служили обладателям языка, потом
сами вошли в него. Именно язык делает человека человеком! Человеком
французским, человеком американским или китайским, человеком русским... Человек
человеку — кто?! Границы нужно переходить не по земле, а по воздуху — там, где
витают слова.
Я пересек на аэроплане территориальную
черту другого государства, и это ровным счётом ничего не значит. Неформальные
границы жизни куда важнее официальных, и они для меня закрыты. Совершенная
всюду водит меня за собой, она мое окно внутрь гуманитарного контекста Франции:
«Бонжу-ур!»
Ну, зачем мне гулять по Парижу?!
Русский классик призывал «выдавливать по капле из себя раба». Если бы он
занимался самоедством в Париже, он бы написал иначе: «Надо по капле выдавливать
из себя туриста.»
И еще. «На свете счастья нет, а есть
покой и воля.» Не сам гений эти слова русскоговорящему человечеству шепнул, а —
сквозь гения, его устами — русский демон объявился.
Русские — практикующие идеалисты, и
поэтому они всегда завидуют сугубым практикам. Русская ментальность
подражательна, впрочем, как у всех идеалистов; прикинет, бывало, Русь на себя
чужую идейку, чужую моду, порядок или опыт и аж зайдется вся от восторга: «Ой,
какая прелесть!» Любая заемная одежка ломает ее суть до неузнаваемости.
Русских в Париже совсем мало, думать
иначе — заблуждение. На минувшем пикнике «Парижского курьера» было человек
десять.
— Первый раз за двенадцать лет вижу
вместе столько русских! — изумлялась Совершенная.
Газетчики подарили газету, в которой —
небольшая заметка о спектакле.
У Совершенной глаза на лоб:
— Первый раз за двенадцать лет вижу,
чтобы о нас написали на русском!
В Париже «впервые» — торжественный
постфактум, в России «впервые» — чаще всего декларация, шумное объявление о
благих намерениях. Посфактумы в России печальны.
Почему это наши писатели о России
предпочитали писать, сидя за границей? А то! На фоне чужой речи мысли о чем-то
«собственном» получаются четче и глубже. Дома ведь суетиться надо, а попробуйте-ка
на бегу резкость навести... Да и родная речь в бытовом спектакле жизни на роль
субретки несогласная. За рубежом становится окончательно ясно: русский язык,
как лопата — им в себе копать удобно. Вдалеке русская родина снаружи не мешает
ставить опыты и препарировать русскую родину внутри.
Сбылось. Совершенная принесла
звукозаписывающий аппарат — кассетный магнитофон времен моей школьной юности.
Знакомый французский комментатор и журналист расспросил обо мне кое-что
поподробнее и достал из чулана дорогой сердцу и воспоминаниям предмет. Раритет
включили в сеть и стали пробовать запись. В общем, сносно, если не обращать
внимания на неработающую перемотку и трехкилограммовый вес чудища. Княгиня,
небось, ручками всплеснет, когда увидит: «Ах, какой граммофончик!» Ладно,
работать можно, а объекты — потерпят. В принципе, большой аппарат даже лучше,
откровеннее, не какой-то там, замаскированный под зажигалку, «цифровик».
Совершенная сердится.
— Ну, мужики! Ну, французы! Самое
дорогое у них — это они сами: их воспоминания, их ностальгия, их трепет.
Попросишь их о деле, а они тебе сразу «самое дорогое» предлагают. И ностальгию
свою, и трепет. Всякий мужик готов вручить себя женщине с потрохами, любит он
так — внутрь просится. Нет уж! Мужик должен жизнь предлагать, а женщина решать:
входить ей в предлагаемый мир или нет. Внутри у меня ни для кого места нет!
Рядом — пожалуйста!
Крепко, видать, пожилой дяденька
раззадорил Совершенную своим чуланным сокровищем. И я вдогонку припомнил вдруг
случай. Деву-Жизнь однажды полюбил лесоруб, ездить стал, наведываться. Привез в
подарок самое дорогое — спил какого-то дерева: «Сто лет запах держится!» Запах
чурбака... Годовые кольца... Мол, прими душу лесоруба, дорогая! А она с
ребенком без денег сидит.
Ехидство — французская желчь.
Дареному магнитофону в паспорт не
смотрят. Он мне понравился, он, как морячок, по всему миру, наверное, за свой
век наездился, и кого только не слушал! Пожалуй, французы правы: самые дорогие
вещи живут в чулане.
— Тебе виднее.
И Совершенная презрительно фыркнула.
Бомжи по Парижу слоняются в одиночку,
так их меньше видно. Редко двое, и то если выпивают. И вдруг я на бульваре
целый пьющий колхоз обнаружил. Прохожу мимо, слушаю: русские!
— Неприятные они, — говорю
Совершенной, — с гонором ребята, нарываются на приключения.
А она вдруг ни к селу, ни к городу:
— Русский человек, как уголек.
Кажется, давно уж погас, а возмешь в ладони, дохнешь ласково — ба! — тепла-то
ещё сколько!
Мне показалось, она о себе говорила.
Хороший мой друг заявил однажды:
«Хватит мне работать бесплатно на свое имя, пусть теперь оно поработает на
меня.» И перестал кувыркаться в искусстве просто так, а стал упражняться в
ремесле за деньги. Искусство в России не кормит, оно там — настоящий людоед:
художник скармливает ему себя заживо.
А в Париже одних спектаклей на месяц
(брошюрку в метро подобрал) — на 180 страниц убористой нонпарелью!
Сегодня совершил-таки выход в город,
тридцать пять минут гулял кругами, чтоб не заблудиться. Так скажу: тайга
беспросветная! никакой воли! О вольнице уж и не вспоминаю — здесь на месте
наших бунтарей клоуны работают.
Вернулся в квартирку, булку с маслом
навернул, полегчало. Все-таки прав Винни Пух: «Не простое это дело — в гости
ходить!» Сижу, как космонавт, в своей жилой капсуле, дышу, жду, когда меня
домой «выстрелят». Срок известен. Задание выполняю. В центре управления полетом
тоже все нормально, краны не текут, с огородом теща справляется. Нечего
волноваться: жизнь — это просто срок. Время и место: кусочек времени — кусочек
места, кусочек места — кусочек времени...
Свидания назначаются и отменяются с
той же легкостью, с какой встречаются
или расходятся облака. Эмигрант, с которым хотели сегодня зависнуть у
монтажного компьютера, поколдовать над видео, не может: нашелся заработок — это
важнее, безусловно. Жизнь — это ветер, надо успевать быть лёгким! Для чего?
Чтобы тебя беспрепятственно всюду «носило», в противном случае будешь
«носиться» сам: с писаной торбой или кучей рукописей. И кому это надо?
В улыбке на лице человека заключена
огромная «подъёмная сила»; в зависимости от геометрии линии губ — гнёт или
возносит. Делаешь дело? Улыбайся! Пытаешься помочь другому? Улыбайся! Плохо
тебе самому? Улыбайся, черт побери! Не для блезиру, а для полета: улыбка — это
крылья удачи.
— Бонжур, мсье!
— Бонжур!
— Меня зовут Брюс, я ваш сосед и у
меня просьба. Возьмите, пожалуйста, ключи от моей квартиры и передайте их
завтра моей дочери, которая прилетает из Нью-Йорка, ее зовут Вирджиния.
Спасибо, мсье.
— О кей!
— О кей!
Он первый раз меня видит. Через
пень-колоду — через мой английский — мы находим взаимопонимание: я соглашаюсь с
широкой улыбкой на все. Завтра полдня буду сидеть дома на цепи, караулить
Вирджинию.
Поводов для грусти нет в принципе.
Можно поворчать. Но ворчание не грусть — это вид удовольствия, радость то есть.
Но странная какая-то улыбка получается, русская: будто одно крыло у
птицы-улыбки вниз опущено, а другое на взмахе, будто соревнование между
крыльями готово подменить собою полет. Русский штопор! С организмом-то все в
порядке, с управлением что-то не так. У нас этих «управленцев» знаете сколько?
— Я родилась с улыбкой! — Совершенная
улыбается. — Сестренка, близнец не выжила, а я вот здесь... За двоих смеюсь!
Улыбка у Совершенной быстрая и очень
«грузоподъемная»: и двоих, и троих, и целый зал поднять может! Она обожает
улыбаться — помогать жизни жить. Подошел и я к зеркалу, осклабился: мимика
есть, а солнышка маловато. Надо тренироваться. В России ведь кирпич вместо лица
ценится. А во Франции с «кирпичом» сразу на дно пойдешь.
Наступает период жары и влажности.
Собаки под окном работают, как биогенераторы непрерывного действия по
производству гэ. Мухи одолели. Совершенная принесла в квартиру пластмассовый
треугольничек с прорезями — мухобой, работающий на контрзапахе: химическая
война, оружие массового поражения.
— Запах должен впитаться в стены и
тогда в течение четырех месяцев они не смогут на них садиться. Будут улетать.
Так написано в инструкции.
Я просто обмер весь! А вдруг этот
запах действует не только на мух, но и на человека? Все ведь мы на планете
родственники изначально. В России у меня, помнится, случались астматические
реакции на парфюмерную отраву, как на серный дым. Совершенная уловила
замешательство и с внимательным подозрением оценила еще раз возможности своего
залетного жильца.
— Будет плохо, завернешь треугольник в
полиэтиленовую упаковку и уберешь в шкаф.
Я улыбнулся. Она ушла. Изобретатели
мухобойки исходили из научных французских данных, что ни одна муха не может
продержаться в воздухе дольше двух минут, нужна посадка. Ага! Тут-то их
ядовитая стенка и поджидает, остается лишь падать лапками кверху.. Как бы не
так! Я специально за одной гадиной следил — полчаса вертелась в воздухе хоть бы
хны, а потом в окно улетела. Они же сытые! Они без дозаправки вокруг земного
шара могут! Мне бы самому от этого мухобоя не загнуться.
Энтропия, математика жизни: все в мире
стремится к окончательному, последнему равенству. Это остановка всего и вся,
смерть эволюции: «Мы ВСЕ погибнем, если не будет войны.» Эволюция постепенно
исчерпывает свой ресурс — борьбу противоположностей — приобретает мир и теряет
потенцию. Между пассивным потенциалом и агрессивной потенцией природа ставит
знак равенства. Перекур навсегда.
Я наблюдаю французов с их самой сильной
стороны — со стороны очарования. Больше того: каким боком ни повернутся — всё
очарование! И чтобы узнать иное, глубину жизни, где властвует тень, я решился
на вопрос:
— А в чем разочарование французов? В
чем они недовольны собой, чего стыдятся?
— В глупости, в беспомощности, в том,
что уже невозможно различить психотип: где женщина? где мужчина? Французы
глуповаты, и знают об этом.
Эти слова произносили, как
сговорившись, разные подданные страны, люди очень умные, содержательные,
способные властвовать в теме и восхищать публично. Мой же маленький опыт
говорил о другом. А интеллектуалы, как один, продолжали твердить о всеобщем
поглупении. И не улыбались.
— Двух парней в Версале видел, на
лавочке валялись? Сорок минут взахлеб обсуждали: о! представляешь, просыпаюсь я
во дворце с похмелья, а там цветы, музыка, женщины..., и я в халате! прикинь?
клёво, да?!
Глупо, конечно. Но это — глупость
всемирная, а не французская. И только интеллектуалы всех стран настаивают на
своем, особом разочаровании.
— За силу французского чувства
пришлось заплатить бессилием мысли.
Не понимаю. Французская мысль и
великие французы — столп состоявшийся, и его уже не покачнуть. Возможно, о
характеристике любой нации можно говорить бесконечно: найдется всё. Все великое
не имеет родины, потому что покидает ее и становится всеобщим, а все ничтожное
оседает на месте. Мне, наверное, повезло, что я общаюсь с людьми «не
привязанными».
Ну, хорошо, допустим, мужчина и
женщина здесь — одно и то же. Половая энтропия. А у нас? В чем разочарована
нация? У кого что болит, тот о том и говорит: Россия твердит о бездуховности.
Что это значит? Надо бы найти противовес, антитезу: бездуховность и
одушевление, жизнь и смерть. Духовность — это Человек. Бездуховность — это
бесчеловечность. Излюбленная борьба самых крайних русских противоположностей
привела к тому, что уравнялись в правах и силе бог и дьявол, стали одним целым,
сошлись! Вот тебе и «русская загадка», в городах и в любом захолустье найдешь
небывалое — то ли бога с сердцем дьявола, то ли дьявола с сердцем бога.
Равенство неба и земли хуже смерти.
Внутри себя Россия окончательно бесчеловечна. Внутри себя беспола Франция.
Главный миф о стране, если его перевернуть, оборачивается главной реальностью.
Глупые равенства не боятся. И я им завидую.
«Мы ВСЕ погибнем, если не будет войны!» Мысль дикая. Но она будоражит меня, и я
не могу ее вычеркнуть, потому что не знаю, как возразить.
Я читал стенограмму беседы
ученых-генетиков. Они долго и тщательно ковырялись в хромосоме и, наконец, нашли
то, что искали, — ген смерти. Штучку-дрючку, роковой механизм, отвечающий за
автоподрыв системы. Интерполировать пример можно на все живое. На муравья. Или
на земной шар. Может, цивилизация и есть тот самый «ген». Бог-конструктор
выставил жизнь напоказ, как блестящий товар на витрину, а главное спрятал: не
найдешь! не найдешь!

Пришла пора рассказать и о моих
собственных разочарованиях. Я разочаровался в тексте. Написанного на земле
огромное количество — несомненное перепроизводство букв и слов. Как следствие,
девальвация магии слова. Прекрасные речи
не делают человека прекрасным. Слова существуют лишь для того, чтобы
создавать напряженные паузы между ними. Актеры знают. В этих молчаливых
«дырках» заключена огромная сила — мотив жизни, ее смысл. Слова сегодня
притерлись вплотную друг к другу; всем тесно, все торопятся, все жалуются на
суету и бессмыслицу. Жизнь больше не «нарастает» на литературные схемы —
ведущее место в воображении заняли высокие технологии.
Понятие «текст» для сегодняшнего меня — это прямое
действие в реальности, а не его моделирование на бумаге или его пост-отражение.
Жизнь выдумывает меня, и я ей это позволяю, а не наоборот. Защита от ошибки в
том и состоит, что человек человека «пишет» напрямую, без бумажного посредника
— в труде, в бою, в быту, в походе. В совместной среде! Там, где совпадают у
живущих время и место. Это — текст. «Я буква бытия…» — написала в заглавии
своей книжки знакомая поэтесса. Социотехнология, мне кажется, важнее сегодня,
чем чистое сочинительство. С этой мыслью был организован отряд подростков, и мы
добровольно и бесплатно трудились летом. Для чего? Ведь не по соцализму же
соскучились. Человек делал Человека,
«прошивал», как сказали бы компьютерщики, важной информацией его основу
— душу. Я в то лето не написал ни строчки. Очарование и выход — в банальности,
в обновлении простых жизненных правил. Ничего нового: первое, разочарование в
тексте — читай разочарование в суете; второе, разочарование в контексте — читай
смущение в философии. Бумага заметно оживает на второй фазе игры. Очарование —
в простоте.
— Ты чего какой?
Хороший вопрос: два в одном.
— Как только поставлю последнюю точку,
запрошусь домой сразу же.
— Как это куда?
— Ладно, считай, что пошутил.
Она все слышит, сказанного не вернешь.
Вылетит, иной раз, зубастенькая маленькая идейка, да тебя же и тяпнет. Поделом,
не рисуйся. Многие слова — тоже хищники, людоеды.
Совершенная показывается лишь иногда,
проведать. Сегодня днем лег спать от скуки. Как дедушка.
Поэзия не одинакова по своему «хирургическому»
предназначению: она успешно осуществляет трепанацию черепных убеждений, смело
режет скальпелем новизны омертвелые мысли, и она же вскрывает сердце, чистит
там что-то.
Совершенная пишет стихи, скоро в
Париже выйдет ее сборничек — напару с Французом. Стихи у нее устроены наподобие
личной жизни: знаков препинания нет вообще, а заглавного много: «Ты меня
помнишь Меня любишь Возьми сменя С собою навечно.» Техника стиха для
чувственной жизни не важна; паутина чувств, сквозная прозрачность — вот что
создает искренность и пульс; рассудочность в присутствии подлинной женщины
молчит или срамится.
Сон вокруг меня постепенно
превращается в расписание. Овеществляется. Поэтому, может, во время дневного
почивания привиделась притча. Будто бы на камерном творческом вечере знатная
красивая дама попросила автограф у автора; проколола стену насмешек и — вышла к
нему смело, непревзойденная! а он взял в ответ свою книгу, раскрыл белый
форзац, проколол острием палец и капнул кровь на бумагу: расписался небывало! —
и в глаза даме посмотрел:
— Примите!
— Ты молчанием пользуешься?
— Пользуюсь.
— Расскажи.
— Это мистика.
— Все равно расскажи.
— Я молчу, когда мне для дела, для
победы и успеха не хватает силенок. А когда мне не хватает противника, я
специально, наперед выбалтываю все свои планы, как последний трепач, и тогда их
осуществить намного труднее. Молчанием можно регулировать уклон жизни: в гору
или под гору. Понимаешь?
— Ты русский, управлять своей
невидимостью — для тебя актуальная привычка.
— И чего что?
— Для тебя весь мир Русь перекатная…
— А ты не молчишь?
— Молчу. Даже больше, чем ты, молчу.
Не потому, что экономлю себя, а просто не с кем упражняться-то; все решает
улыбка, а не ум. Французы от философской нагрузки валятся, как от тяжелой
артиллерии. Избегают. Зачем им это? Интеллектуальные гири — удовольствие для
избранных. Согласен?
— Оно конечно.
Я несу божественную скрипочку
Совершенной, мы шагаем по пригороду Парижа, где поселилась подружка-Жизнь,
среди домов и садиков, одинаково изящных, как конфеты в подарочной коробке, все
у всех есть, не хватает только бантиков над крышей.
И вот я опять дома, в комнате воняет
дустом, мухи покинули стены и сидят теперь на моей кровати. У меня появилась
цель в жизни: я должен пережить мух.
Демоны, демоны вокруг шуруют! И мухи
эти окаянные! И погода испортилась. И самолет опять упал где-то. Пусть. Надо
улыбаться. Улыбаться и молчать, как дурак. Я так и делаю здесь.
Все говорят на нескольких языках, это
норма, потому что необходимость. Меня при встречах бодро вопрошают.
— Парлюа де франсе?
— На… — мычу.
— Ду ю спик инглиш?
— Литл-литл…
Совсем тупой. И я в момент делаюсь для
собеседника “невидимкой”, языковым и коммуникативным трупом.
Вечером одинокий труп заставил себя
прогуляться. Дошел до Монпарнаса, купил два бутерброда, перевел на «наши» —
роту за такие деньги накормить можно! Посмотрел на Париж сверху: камень,
камень, камень. Зелени мало, но картина завораживающая: город! — серое вещество
думающего времени и места, сумма сложившихся поколений, плодородный слой
истории! детская игра-складенчик, мозаика Бога, которую много веков подряд,
крошечка к крошечке, складывали прекрасные ангелы.
Жизнь не раз советовала:
— Не ленись, пройди Париж пешком от
окраины до окраины.
Не пойду. Одна пара носков уже с
дырками. Жизнь прожить — не Париж перейти.
Итак, я жую всухомятку, я ложусь на
кровать и вижу напротив, на гвоздике, в рамке судьбинушку — с хомутом и
оглоблями. Это картина. Слева черная пашня, справа плотная зелень, посередине —
стрелою! — межа, натянутый луч, летящий за горизонт. Лошадь видна сзади, будто
бы возничий-художник привстал на телеге; острые ушки лошадки торчат, и межа
между ними видна, как в прицеле. Черное слева, зеленое справа: н-нно! бороздой!
Подпись к картинке висит в туалете,
пойду, наизусть заучу: «Владей собой среди толпы смятенной, тебя клянущей за
смятенье всех…»
Отправляясь на свидание с ассоциацией
«Франция—Урал», я прихватил с собой все имеющееся «железо» — довольно-таки
большую свою видеокамеру и магнитофон, плюс через плечо вторая сумка, поменьше,
с ключами, картой города, проездным, очками, лупой (ничего не вижу, когда мелко
и близко) и салфеточками для промокания телесных жидкостей. Вперед!
Сопровождающих нет, но я заранее изучил свой путь по карте. Прибыл рановато.
Справляюсь у дворника на кривом английском насчет номера дома и названия офиса.
Не понимает, перечисляет понятные ему языки, в том числе и «рюс».
— Русский? — переспрашиваю.
— Я русский! — Обрадовался, потащил
меня к себе в конурку при богатом подъезде, напоил чаем. Серьезно сообщил, что
закончил философский факультет когда-то.
— Знаете, что я сегодня читаю?
— ?!
— Библию!
И он рассказал мне об ошибках
человечества и его светлом будущем — Апокалипсисе. Полыхнем напоследок. Привет
— пока! Как в сказке: есть направление движения в жизни, а сценарий дней и лет
открывается по принципу экзаменационных билетов: вытянул случайный — отвечай,
что знаешь. Свобода! Одни, и их большинство, понимают ее как свободу в скорости
бытия и в широте его выбора. Другие понимают свободу как свободу замереть.
Вероятно, свобода — это сам человек. Свобода бывает большая и маленькая,
свобода внутри и снаружи. Большая свобода в тебе и ограниченная вокруг — это
мука, карцер судьбы. Впрочем, есть варианты и компромиссы.
На рандеву я опоздал.
— Сколько у меня есть времени для
беседы?
— Теперь меньше, — неопределенно и
слегка ехидно произнес Президент.
В течение часа я уяснял историю
славного пути, пройденного общественной организацией, а в течение последних
пятнадцати минут — «грузил» своё: мол, ищу единомышленников, мол, ничего не
прошу, особенно денег. Последнее обстоятельство Президента порадовало. Русские
обычно приезжают, чтобы найти инвестора. Деньги для многих моих
соотечественников — цель жизни. Средство не может быть целью, это полнейший
абсурд, которого голодным, хитрым и злым не объяснишь.
— Франция успела высоко подняться за
счет колоний, — Президент как бы извиняется за свое благополучие. — А чего вы
хотите достичь своими действиями?
Беру быка за рога.
— Безопасности. Чтобы бандитов на
улицах не было, чтобы одна страна другой не боялась. Земля — не такой уж и
большой самолет, и мы в нем заложники друг друга.
— Глобально.
Я осекся, будто неприличных слов в
воздухе понаделал, испортил воздух… Помолчали чуток, очухались, снова на твердь вернулись. Теперь
Президент шороху дал.
— Наше общество выступает за то, что
Урал — это новое сердце будущей Европы, границы которой должны простираться от
Атлантики до Тихого океана. Урал — сердце!
Тоже будь-будь! По фюрерски! Но на
Россию нельзя идти с танками — идти следует с проектами Нью-Васюков, получится
как по маслу! Запад это понял, молодцы. Иван с ржавой гранатой среди пассажиров
летящей Земли никому не нравится. Кто-то ведь головастый додумался: не бодаться
с Ванькой надо, а брататься, — последнюю рубаху сам с себя снимет! И хорошо.
Взамен костюмчик получит, на курсы по английскому побегает, деток своих на
съедение в новую школу отдаст. Преувеличиваю, конечно, процессы ассимиляции не
остановить. Получается, однако, что у каждого свой реваншизм в речах
присутствует: кому мёд, кому желчь.
Назначили дату моей пресс-конференции
на тему: «Урал — сердце Европы». Ну, ничего, я им еще и Заратустру припомню, он
ведь где-то в наших местах бродил, глобализуем тему до предела: «Урал —
колыбель цивилизации».
И чего ёрничаю? В ассоциации работают
очень милые, хорошие люди, которые меня приняли и были приятны. Все-таки это
русское: кусаться. Девушка-журналистка в «Русской мысли» дала об ассоциации полосу, в тексте есть описание
одного эпизода: знаменитый русский оружейник раскритиковал французский
автомат-аналог в пух и прах. Наш человек: главное — укусить сначала, а уж потом
разбираться, любить, каяться. Крокодиловы слезы сами по себе не получаются, а
без них — не жить русскому!
Жизнь, как этюды. Кажется всегда:
успею, вернусь, допишу картинку жизни до шедевра. Не бывает этого. Жизнь всегда
пишет один раз и набело, а если и есть черновик — то это ты сам.
Простите, если где передернул:
исследую тему математически — при минус бесконечности, плюс бесконечности и в
нуле. Перебор только в картах опасен, а в литературе — это вид осторожности.
Спасибо всем, кого я обидел.
Вирджиния приехала. Я, растерявшись,
глазел из приоткрытой двери на то, как она перла свой огромный чемодан по отвесной
винтовой лестнице. Пока соображал: помочь или не успею? — чемодан доперся. Я
отдал ключи, «набонжурился» и с облегчением закрылся на замок.
Прилетала всклоченная Совершенная, сообщила о невероятном событии:
«Мы помирились с Французом! Я его простила!»
— За что?!
Тишина. Лучше ни о чем не спрашивать,
ранимые они тут все, как эндемики. Франция! Заповедник сверхчувствительных:
шевелить языком следует еще аккуратнее, чем руками. Русское людоедство на
французское не похоже: «человечинка» по-разному понимается, добывается и
употребляется. Человечность, то есть.
Совершенная пришла лохматая, что-то
бормотала о заболевшем парикмахере. Подозреваю, что сегодня она расчесывала
волосы вилкой. Очень вероятно. Все гениальные ходы в мире повторяются.
Француз прислал мне еще одну свою
книжку с рисунками, где собрана изо-коллекция повешенных. Даже дополнительную
петельку на титуле дорисовал, эксклюзив с надписью: «Лев, к которому я
привязан».
История — нить, одни ее тянут, другие рвут
и запутывают, третьи обратно собирают. Я такой процесс в сумасшедшем доме
однажды видел, «трудотерапия» называется. В масштабах Земли — божий промысел,
непостижимая паранойя. Составлять целое из разорванного интересно: писать
книги, делать фильмы, стягиваться в точки встреч, превращаться в живое
насыщение полу-обездушенного урбанизированного пространства вокруг. Легенды
возникают ни до, ни после человека, они — истина, выраженная в мечте. Мечтать
не вредно. Но очень дорого!
Думаю, что меня, как и всякого
малоподвижного иностранца, в Париже мучает несоответствие кое-каких
«плотностей» жизни; в моей традиции
много «тяжелого»: мысли, характер, мировосприятие, — поэтому среди легких
французов я тону, как уральский булыжник, и, боюсь, случится обратное, доведись
оказаться в плотнейшей культурной атмосфере — окажусь слишком «пустым», все,
все будет выталкивать меня прочь. Хоть так, хоть этак, жизнь получится
«наразрыв». Дома почему легче? — раскоряки друг другу красавцами кажутся.
Придется сознаться в неприятном: не «тяну» я пока на Париж, домой рвусь. И
хорошо, и плохо. Молодец, что душа дома живет. Плохо, что о капитуляции думаю.
Перейти через Гималаи по земле,
пожалуй, легче, чем через Гималаи внутри меня. А, может, там и не горы вовсе,
внутри меня, а пропасть? Тогда без крыльев не обойтись. Тут у местных статуй я
видел подходящие крылышки, тоже, небось, не просто так наросли.
Меня «выгнали» из дома на время беседы
Совершенной с продюсером. Он ее хочет. Так она сказала. Это означает: он
согласен с ней работать. Все очень целомудренно. Чуток лишнего, хотя бы даже
намек — работы не будет. Сегодняшнее искусство интриги заключается в этом, а не
во флирте.
Апельсины, которые мы едим дома, — не
для стола. Из них сок в кафешках жмут. А те, которые к столу, выращивают
специально: большие, с тонкой корочкой, мясистые и сытные. Я сегодня двумя
такими пообедал.
Слова — боль души. Душа словами
лечится. Здоровая душа молчит.
Вечером изволили быть в театре. Я
надел костюм с галстуком (зря, что ли, вез?) и от жары чуть не кончился — в
полном зале на триста человек единственный такой был, в «термокостюме». А
давали в театре Марину Цветаеву, «Последний день Казановы», на французском,
разумеется. Постановка замечательная! Театр — это место, где рождается
недоговоренность, и эта недоговоренность — зритель! Мне это нравится, потому
что смысл возникает из пустоты.
В России — матрешка, а в Париже —
театры! Их тысячи, горожане ходят в театр, как кофе попить, — в искусстве
воспитана естественная потребность. Вся Франция — огромный театр, а в ней
таится другой театр, Париж, а в Париже сцены и сценки, а на сценах и сценках —
миры говорящие! «Матрешка» Франции — игра! экспрессия! подмостки и площадки!
живая мимика и актерские нотки в быту! — театр! — родство в родстве.
У нас Илья Муромец деревья с корнями
выдирал, театр царского двора недолюбливал, а у них — Казанова. Оба богатыря в
деле побывали, каждый на своем поприще отличился. Народы теперь гордятся.
Глупый от дурака отличается
принципиально: глупый счастлив, а дурак социально опасен.
«Что делать?» — этот вопрос задают
лентяи и бездельники, маскируя таким образом настоящий свой вопрос: «А что
дадут?»
Кладбища здесь удобные, развивающиеся
по семейному принципу. Строится этакий каменный домик, склепик, и
семейство-династия туда свой прах в порядке неживой очереди ссыпает — кто век,
а кто и больше. У некоторых, наверное, сундуками уже серый капитал исчисляется.
Даже смерть здесь работает «на плюс».
Самый верный путь указвают самые злые
демоны.
Потрясающая у Французов чувствительность!
К Совершенной пришел в гости популярный шансонье, она его потчует, а он не ест
почему-то. Не может, узрел кроссовки под шкафом, они оскорбляют его эстетику.
Заверните, говорит, в полиэтилен, пожалуйста… Завернула. Смог тогда глотать.
Нам не понять. Пара наших русских
мужских носков, как пара космонавтов, запросто могут существовать в автономном
полете, без смены экипажа, год, или даже больше. Русский дух, он ведь как
силища богатырская, во всем чувствуется! И с аппетитом у нас тоже просто:
русские глотают, не только не глядя, но и не жуя.
Мне, кстати, от гостя-шансонье
остались макароны с грибами-лисичками и капустой. И много! Содержимое тазика
средних размеров я осилил в два приема, с перерывом на потянуться. У нас
когда-то соседка была, держала дога, кормила скотину по науке, раз в два дня,
примерно по столько же, тазиком.
Можно погибнуть геройски, а можно
спланировать свой «расход» с пользой. С пользой — это когда жизнь продолжается
в материи, а не в легенде. Помните штаны Француза, в которых Совершенная
явилась однажды? Их больше нет, они погибли, преобразившись, — теперь это
шорты.
Я ахнул.
— А что теперь Француз скажет?
— У него еще есть.
Француз генерал, а штаны — его
солдаты. И они счастливы погибнуть в огне любви.
Как это понимать: дракон из притчи
кусает свой хвост? Символ-то понятен, а как быть насчет распределения ролей?
Кто Дракон? А кто Хвост? Круг жизни слишком велик для того, чтобы человек мог
приложиться к нему целиком. Кто-то лишь чешуйка на Драконе, кто-то его
«аппендикс», кто-то коготок… Драконы бывают большие и маленькие, как судьба.
Интересно, я сам «кусаю» свое прошлое, или оно меня?
Что я хочу? Что у меня получится? Что
заставляет «выпадать» из своей привычной жизненной лунки и двигаться? На столе у хозяйки моего загрансна появилась
невесть откуда принесенная брошюрка «Плоды истинного покаяния» сиигумена Саввы:
«… плач о грехах — вот что важнее всего в деле покаяния. Ну, а если нет слез?
Что тогда делать? Не надо отчаиваться!»
Дескать, будут, будут еще слезыньки,
покаемся с размахом, и Америку, и Европу догоним и перегоним, и на Марсе будут
яблони цвести. Фу! Пойду-ка я лучше лицо с мылом умою, а то как будто паутины
нахватался. Паутины в русских снах, как в лесу!
Редкий случай, когда женщина находит в
мужчине то, что ищет — силу и верность. Многим женщинам ненайденное с успехом
заменяют хороший автомобиль и деньги.
Французы копают не глубоко.
Поверхность земли над ветками метро вибрирует.
— Бонжур! — говорят мне при встрече
совершенно незнакомые люди.
— Бон-жу-ур!
Народ вежливый, как в наших самых
глухих деревнях.
Французы любят быть великими, и
поэтому они становятся великими. В России иначе: ничтожество опирается на
велиречивость, а гигант обычно скромен и прост. Поэтому русские открытия —
после всех. Француз пищит да лезет!
— Я люблю французов за то, что они
всегда делают то, что говорят.
Совершенная, как всегда, категорична.
Вокруг нее всегда много мужчин. Она безжалостно превращает их в друзей: «Сердцу
не прикажешь!» — и они навсегда предоставляют свои нежные души и свои земные
возможности в ее распоряжение. Дружба умнее любви.
В парке долго наблюдал за катанием
мальчиков на роликовых коньках. Ни налокотников, ни наколенников, прыгают
высоко, делают пируэты, иногда падают, обдираясь до косточки, — даже не
морщатся от боли! продолжают катание! — нет, это не маменькины сынки (которые
по не очень справедливым словам Жизни «носятся со своим телом и не знают, что с
ним делать»). Русская лень порождает кусачую зависть. Тело — главный фундамент
бытия и «носиться» с ним очень даже хорошо. Фундаментальная основа не даст
упасть впоследствии ни качающимся чувствам, ни склоняющемуся к чему-либо
разуму. В здоровом теле — здоровая независимость. Французы это знают без
напоминаний.
На крепком фундаменте дворцы можно
строить: прадед начнет, правнук закончит. А на четырех кольях — избушку разве
что… Получается, что именно тело — основа преемственности, залог будущего и
гарантия истории. Пьяных в Париже я не видел, курящих тоже мало. Фундамент —
дело важное. Браво, Франция!
Жизнь когда-то была деревенской
девочкой, училась в провинциальном «кульке» (культпросветучилище), где ее
держали за Маугли: говорить не могла, всего шугалась. Кто-то обижал, кто-то,
наоборот, прикрывал — все позабылось за время парижской жизни! Той Жизни больше
нет, другая родилась и выросла, не русский морозоустойчивый сорт с кислинкой —
субтропическая ягодка, уникальная скороспелка.
Приехала однажды в гости, в родной
кулёк.
— Говорю им: здравствуйте! А они меня
не узнают, изо-всех сил Маугли ищут, хотят видеть то, к чему привыкли.
Здравствуйте! Не рады, другая какая-то явилась, самозванка. Здравствуйте!..
Злись, Жизнь, злись, тебя это не
портит — ты женщина толковая, умеешь сама себе слова говорить: «Русским
привычного хочется, одного и того же, ортодоксального канона бытия на веки
вечные: никто не изменяется и поэтому ничто не изменится. Привычного давай,
одного и того же давай! Очнись, Русюшка!»
— Почему они хотели видеть в тебе
старое?
— Они хотели видеть во мне то, что есть
в них самих.
Девчонки делали запись на старейшем
частном радиоканале. Пели, балагурили, хохотали. Атмосфера легкая, дружеская,
на частном радио политики и цензуры нет. А в павильонах иного ранга роль
цензора выполняет страх, боязнь не то ляпнуть,
не так подать, не с тем встретиться. Как у нас, точно так же.
Страх делает интригу жизни мертвой.
А в частной студии жизнь клубится.
Ведущий за девчонками ухлестывает, как перпетум-кобеле.
— Хотелло промахнулся? — смеюсь.
— Точно, точно, Хотелло! Он очень
обаятельный, хороший, но на всех кидается. У него с женой плохие отношения.
Ну, вот. Весь юмор мне испортили.
Спектакль продолжается. Пришел Пьеро,
его зовут Давид, тихий, застенчивый полноватый корсиканец, безнадежно
влюбленный в Совершенную, композитор, дарящий свои диски с улыбкой печали.
Театр Карабаса — большой зал «Ла
Сигаль». Опять фейс-контроль на входе, огромное количество народа, а внутри
огни, дым сигарет, тьма и вспышки, на сцене джаз с африканским уклоном, играют
сочинения Давида. Совершенная ушла через пятнадцать минут после начала
концерта, я через двадцать. Влюбленный Пьеро затерялся где-то в визжащей и
прыгающей толпе.
На рок-концерте мне показалось, что
весь мир устроен по принципу рок-группы,
в театре поэзии и пластики весь мир мне почудился таким же, а на джазе я
понял: земля — это джаз!
Массовые концерты позволяют пожинать
плоды музыкальной неграмотности незаметно.
Мужики хорошо играли, громко, а тот,
что на клавишах, музыкальным образом бился, как в припадке. Наши тоже так делают,
но на них смотреть неприятно — настоящий припадок напоминает.
В парке обнаружился огромный платан. Я
представил его годовые кольца и в воображении стал постигать глубину времен,
закольцованных в могучем стволе. Подобный, почти спиритический опыт общения я
проводил однажды дома с раздвоенной березкой, что росла у дороги. Березка от
моих домоганий «проснулась» и повела себя, как сирота — привязалась, не
отвязаться. Года два в душе свербило непонятным образом. С тех пор я деревьев
побаиваюсь, очень уж они давно живут на планете, гораздо дольше нас — в
невидимом властвуют. А с платаном не удержался: ты кто будешь? Он меня ответом
не удостоил. Вроде как безродный мальчишка к барину подкатывает; о чем с
холопом говорить?
Даже деревья разным воздухом дышат! В
одном месте сироты получаются, в другом — баре. Семена! Корни! Одни говорят:
«Уж больно место у вас хорошее!» А другие сетуют: «Эх, нам бы ваше время!»
Редко одно с другим у людей сходится.
Эмигрант обитает в престижном 16-м
квартале Парижа, — это там, где стоит Эйфелева башня и живут новые русские. У
каждого эмигранта есть свое «здесь» и свое «там». Между двумя точками жизни
Эмигранта протянута извилистая тропка судьбы: актерские искания, работа в
московскх театрах, болезнь мамы, жизнь в Одессе, фиктивный брак с парижанкой,
бегство из-за границы на родину и вновь бегство…
Нынешняя жена Эмигранта одесситка, она
готовит обед и украшает специфический «компьютерный» разговор двух мужчин
сочным одесским говором, ехидными репликами. Эмигрант снимает клипы и ставит
спектакли (в масштабах художественной самодеятельности, но — профессионально),
жена шьет костюмы.
Как живут? Входишь в подъезд дома —
шикарно: бронза, ковры, но идешь далее не к парадной лестнице и не к решетке
лифта, а к скромной боковой двери. Дальше, как обычно: по вертикальной винтовой
лестнице — топ-топ! — на шестой этаж в малюсенькую комнату под самой крышей,
где когда-то ютилась прислуга. Зато, спросят, где живешь — шестнадцатый
микрорайон! О!!!
На деловую беседу мы потратили с
Эмигрантом минут пять, остальное время
чесали языком и смотрели в экран монитора. Эмигрант готовит особенный
спектакль: часть действия происходит на подмостках, а часть на экране — живые и
виртуальные герои взаимодействуют, волшебным образом переходят из одного пространства
в другое. Тема: любовь в Париже и КГБ в России. Реальный случай: актера
советсткого кукольного театра — в порыве любви и в знак благодарности за
высокое искусство — целует на парижском перроне неизвестная девчонка. Дома
мужика затаскали, он всего лишился, пил и был одержим маниакальным стремлением
вернуться в Париж и найти ту девицу, чтобы задать ей единственный вопрос:
зачем?!
В сценарном варианте Эмигранта — таки
он ее нашел. И вот они танцуют аргентинское танго, они сближаются для поцелуя,
а на мужчине — маска Пьеро; женщина что-то мучительно преодолевает в себе,
наконец, она снимает с него маску, а под ней — нарисованное лицо кукольного
Пьеро, точь-в-точь такое же: белое и неподвижное. И женщина вдруг надевает
первую маску на себя, они становятся абсолютно похожи, она его обнимает и
наступает мир — белый и неподвижный.
Комнатка заполнена цифровой
апаратурой, специальными коннекторами, накопителями, приводами и прочим
«железом».
— А куда без техники? Вот, вложился,
кормлюсь теперь. Все сам, сам и сценарист, и режиссер, и актер, и монтажер, и
продюсер.
Ну, это и нам знакомо: хочешь сделать
быстро — делай один.
Воля и стремление! Без этого нигде не
выжить. В одном из парижских ресторанов работает русский, он полностью глухой,
французский язык выучил, читая фонетику по губам. Фантастика! И понимает, и
пишет, и сам говорит без акцента.
Кстати, полицейские в Париже зорко
следят за тем, чтобы профессиональная съемка на улицах города не велась, требуется
специальное разрешение мэрии, платное, разумеется. Эмигранта за этим занятием
ловили, он поступал по-русски: ничего не понимал и притворялся туристом. Только
туристам здесь все можно, как у нас бандитам.
К приезжим и бездомным тоже лояльны,
есть ночлежки, можно позвонить по «015» — приедут, подвезут на машине,
бесплатно устроят на одну (только на одну!) ночь в гостинице. Социальная
забота, государство заставляет всех владельцев гостиниц постоянно держать для
возможной такой клиентуры несгорающую «бронь». Назавтра трюк с «015» можно
повторить. Говорят, иностранные студенты этим пользуются во время каникулярных
путешествий. Парижане чувствительны к некомфортности, поэтому стараются
бездомным то ли помочь, то ли откупится от их страданий. Нынешней зимой на
улице замерзли четыре бомжа, они стремились переночевать в метро, а метро на
ночь блокировалось. Такой скандал французы своим властям учинили! Теперь метро
на ночь оставляют открытым. Похабени и плевков на полу сразу прибавилось.
А вот и ценная информация от
Эмигранта: на такой-то остановке метро («Barbess») есть базар, по средам и
субботам, ближе к обеду, к моменту закрытия базара фрукты можно покупать
ведрами и ящиками. За евру — кучку.
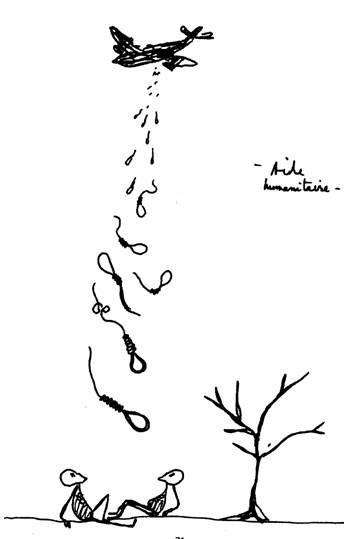
При взгляде из России многим приятна
мысль, что Париж русский. Что в нем очень много
наших и нашего. Эта легенда порождена русским самолюбованием. Русского
Парижа нет. Африка к Франции гораздо ближе во всех отношениях.
Эмигрант консультировал впрок.
— В середине лета Париж опустеет:
жара, колоссальное количество нагретого камня и мало зелени — все уедут за
город. Рестораны закроются, паркуйся, где хочешь, полиция с 15 июля по 1
сентября не штрафует официально. Одни туристы будут шататься.
— А ты?
— Я работать буду, у меня спектакль
вот-вот… Хочешь, я тебе программу дам, «Осёл» называется, бесплатно тянет из
Интернета все, что хочешь!
Но тут мы сравнили наши скорости жизни
в проводах, и «Осёл» отпал сам собою. Всюду неравенство. Даже в возможностях
электронного воровства. Видимо, это и есть справедливость.
— У меня тоже сценарий в голове
крутится, — говорю.
— Какой?
— Фильм. Гавный герой — звук. Ухо
человека. Русское ухо, впервые попавшее в Париж и впервые услышавшее чужую
речь. Человек не понимает слов, и поэтому он перестает их слышать. Мозг ведь
это делать умеет — отбирает для анализа только то, что ему понятно. Незнакомый
мир Парижа предстает в виде интершума — всего того, что в переводе не
нуждается: шума улицы, голоса животных и природы, звуке машин, крике грудных
детей и стонах инвалидов, свистках полисменов… Прочие люди открывают рты, но
они беззвучны. А в конце сюжета маленькая девочка берет приезжего за руку и
говорит ему: «Бонжу-ур!» И вдруг человек начинает слышать речь! Еще не
понимать, но уже — слышать!
— А в чем интрига? Что-то ведь должно
произойти?
И я понял, что правы те, кто разделил
мир на аудиальщиков и визуальщиков. Париж — столица визуалов, главный театр
планеты. Без зрелища тебя здесь не услышат.
А Эмигрант добивает, напоминает об
универсализме типа «хочешь жить — умей вертеться»:
— Я ведь долгое время групповой
психотерапией еще занимался, методами театра лечил людей от алкоголизма.
— Помогало?
— Да! Были очень богатые клиенты.
— А почему не стал продолжать?
— Не могу долго делать одно и тоже.
Что ж, это знакомо. И тоска знакома,
когда «одно и то же» до смерти надоело, а новой дороги не видать.
Двигаться надо! Французов идея
движения гонит на неприступные скалы или в Марианскую впадину. Нашему брату из
всех видов свободы хватает свободного падения: вечером с двух стаканов упал,
утром силком поднялся — есть «движение», значит, есть человек.
Еду в метро, а сам думаю: вот привезу
в Европу дочурку, а она первым делом и спросит: «Пап, а почему дядя грязный?»
Нутром чую, спросит. Как ей объяснить,
что человек — это не цвет кожи, что нельзя сравнивать, что сама приычка
сравнивать — чистый расизм.
Разум не может существовать вне
сравнений. А нравственность не сравнивает. Не умеет. Я всегда был уверен, что
именно нравственное является «педалью тормоза» для всеядного и бессовестного
человеческого «компьютера» на плечах. От дисбаланса между «можно» и «нельзя»,
между скоростью и замиранием растет неуравновешенность и возбудимость внутри
человека. Каждый второй француз (по данным статистики) — постоянный клиент
психоаналитика. «Компьютер» на плечах без внешней профилактики начинает
«виснуть» и «глючить». В мире психоаналитики (впрочем, как и в религии) есть
специалисты по «переформатированию» личности. Искусственные мозги появились
раньше, чем силиконовая грудь.
Ближе к вечеру, в парке машинально
прихлопнул на себе единственного на весь Париж комара. Природа отомстила тут
же: сверху на меня какнула птичка, попала.
Давид-композитор в своих джазовых
композициях, я догадался, компенсирует свою застенчивость — музыкальным шумом
ударных и электроники, предельной пронзительностью саксофона и трубы,
африканской ритмической экзотикой: все в одну кучу — супермикс!
— Подпишешь свой диск на память?
Давид подписал — будто мелкая птичка
клювом неуклюжих буковок наковыряла, насорила маленькими черными крошками на
листе… Был когда-то в нашей развеселой студенческой компании похожий парень.
Нежный, очень воспитанный, чуткий ко всем. Голубой человек. Запинали его
насмерть около «Рюмочной» ноги перестроечных подростков.
— Правда, правда! Все в людях сделано
по шаблону. Я объездил все континенты и могу говорить с уверенностью:
существует около восьмидесяти «моделей» устройства человека. Не важно, китаец
ты или негр. Типы узнаваемы и повторяются везде. Как врач говорю.
Слова моего школьного приятеля,
ставшего крупным светилом в медицине, засели во мне, как присказка. И вот гляжу
я на парижские лица, а узнаю в них — русские: колдовство да и только! Но это не
мы, не люди колдовали. До нас еще кто-то поработал.
Чем выше точка равновесия общества,
тем больше в нем неуравновешенных людей. Количество психологов растет
неспроста, потом пойдут в буйный рост психиатры, а уж за ними самый цвет —
палачи. Такой мне кажется философия развития всего сложного; именно палачи
рубят окно на следующий этаж (или этап?) жизни. В этой роли поочередно побывали
и мессии, и цари, и полководцы, и авантюристы, и ученые головы.
Вечером в гости пришла «горная»
подруга Француза, Федери, спортивного сложения девушка с лучистыми глазами и
смешливым характером — инструктор по горному туризму. Я приготовился слушать
рассказ о прогулочных маршрутах выходного дня. А она буднично произносит:
Эверест. Трудно привыкнуть к тому, что границы страны не являются для ее людей
границами представлений и возможностей.
— Горы, Федери, для тебя самое высшее,
что есть в чувстве жизни? Они поднимают и держат планку ощущений?
Совершенная переводит. Федери думает,
заметно, что мысленный ее взор витает где-то там…
— Нет. Высшим достижением в жизни для
меня являются друзья.
Совершенная переводит голосом
тоненьким, лисьим, очень ласковым. А потом, вдруг, обращаясь ко мне, говорит
по-русски «толстым» голосом: «Она единственная женщина в мире, кто поднимается
на 7000 метров без кислородной маски!»
— Почему без маски?!
— О! В маске у меня нет ощущения гор!
— Ты в горах строгая?
— Ничуть. Как мама-курица, всех люблю.
Понятно. Группа идет на
самодисциплине. Горы не шутка, смерть всегда рядом.
— А правда, что половина французов —
это клиенты психоаналитиков?
— Правда. Только, наверное, не каждый
второй, а каждый пятый.
— Откуда статистика?
— Я решила учиться на психолога.
Вижу и чую теперь больше, чем в первые
дни: полно пьяных и бомжей, в душном метро и в узких боковых улочках наличествуют
миазматические запахи. Сон ты мой, сон: глазками вверх-вниз, кругом озираюсь, —
уже критически, а не затравленно: вот и меня пригрел Париж на своей груди.
— Федери! Мне нравятся хорошие люди во
Франции, мне очень хорошо в их компании. Знаешь, Федери, что мне кажется? Что
они вот-вот заговорят по-русски! Момент близко, я его уже чувствую.
— Хи-хи! — она просто покатилась со
смеху. Очевидно, в других странах и у нее возникала эта иллюзия.
Увы, без языка «своим» нигде не
станешь.
— Учись определять дистанцию, когда
говоришь с людьми.
Совершенная, как всегда, изъяснятся
полунамеками, полуприказами. И строга в лице с землячком — сладкая лисонька не
про мою честь: обойдес-ся, мол. Это мудро. Я в свободное время читаю «Книгу
воспоминаний» Великого Князя Александра Михайловича (подарили в ассоциации
«Урал — Франция») Член царской семьи о царском воспитании рассказывает — не
обрадуешься! Отвечаю урок:
— Дистанция! Если сильный собеседник,
то можно подойти поближе, если слабый — сделай два шага в сторону, ему так
комфортнее. Энергетика! Я правильно понимаю?
— Молодец.
А еще я носки сам стираю и трусы. И
сушу их ночью перед раскрытым окном на хулахупе.
Вопросы и вопросики. Для чего учить
язык, если не бываешь за рубежом? Для чего ехать за рубеж, если не знаешь
языка?
Моя борьба с советской властью еще не
закончилась.
Идея всеобщего равенства не
тождественна идее социальной справедливости. Богу богово, а Кесарю кесарево;
подлость «равенства» в том, что кесарево и богово — в одной куче. Очень уж русский
вариант, сказка, сделавшаяся страшной былью. Каток, уничтожающий все, что
«высовывается». Энтропия необратима и сегодняшняя реставрация «укатанного»
ничего не даст — ни веры в скороспелых, выросших на бандитских деньгах церквях,
ни характерного русского воспитания, которое всегда стояло допреж
образования.
Чума либеральной демократии витает и
над сытой Европой. Декабристы-террористы все увереннее играют музыку смерти —
реквием бомб в мире счастья. Страшно не то, что это есть, а то, что это
сделалось возможным. Эволюция жизни включила автоподрыв, чертов свой ген!
Европа придет к тоталитаризму. А сердцем ее станет Урал. Россия сегодня —
ничья. Все произойдет само собой, потому что все уже произошло. Уменьшится
густота и высота жизни, бомб не будет, пока не будет. Это мне сон такой сегодня
приснился. Начитался я на ночь глядя проницательных мемуаров Великого Князя
Александра Михайловича.
Воду из обычного крана наливают в
хрустальные стаканы и ставят на стол, по вкусу напоминает родниковую. Наша вода
течет по ржавым железным трубам, здешняя — по латунным.
Попросил у Совершенной ее стихи,
читаю, представляю, как можно было бы выйти к микрофону вдвоем и устроить
русско-французскую перекличку ритмов и рифм. «Судьбу прошу бросать меня все
выше, чтобы увидеть больше, чем во сне» — так написано в одной из ее строф.
Поэты печальны, но не беспомощны; глубокое постижение жизни заставляет их
мрачнеть, но чтобы не потерять равновесия и не идти к психоаналитику, поэты
склоняются к эксцентрике и буйству. Творческая личность раздвоена — на крылатую
и бытовую, пара похожа на двух альпинистов в связке: если одна твоя часть
падает в правую пропасть, другая добровольно срывается в левую; ниточка слов,
как страховочный шнур, держит и ту, и другую на гребне печали и радости.
Звонят по домофону. Кто бы это мог
быть? Нажимаю кнопку двери, жду, снова звонят, снова нажимаю, звонят! звонят! —
спустился вниз со второго этажа босиком, а там почтальон, мальчишка-негр:
«Здравствуйте, я принес вам посылку». Здоровенный пакет для Совершенной из
какого-то института. Сунул и ушел, как растворился.
— Сенк ю… — бормочу вслед. Ни паспорта
не потребовал, ни подписи — избавился от поручения и всё. Простые бумажки над
простыми людьми во Франции силы не имеют. (Только непростые бумаги сильны, да и
то для непростых лишь смертных — для элиты. Я так думаю.) А наша любая бумажка
из долбаной какой-нибудь конторы, что комиссар с ружьем: р-раз тебя к стенке!
шлеп без разговоров печатью!
Сравниваю, сравниваю я одно с другим,
— видать, не нравственный я еще человек, «расист», представитель страны
самоубийственных варваров: надо жизнь любить, а я все думаю, думаю… Думать мы
любим больше, чем делать. Мозг пожирает, как широкозахватный комбайн, свою
ниву: от Атлантики до Тихого — иллюзии любят размах.
Духовидец Сведенборг, глядя с того
света на этот, не без оснований заметил: «Мы не живем на земле. Нами живут.»
Эту эзотерику я приноровился ощущать по-своему: будто бы духи всевозможных
деятелей, не доделавшие своих дел при жизни, выбирают потом среди плотского
люда кандидатов: через кого бы им «доделаться»? Выберут — человек необъяснимое
«призвание» чувствует, в ремесле совершенствуется. Нами живут! Мы воплощаем сон
судьбоносцев-конструкторов. Я иногда специально стараюсь держать душу настежь,
нараспашку, чтобы «они» не томились зря, не стучали дважды: входите, ребятки!
Главное в этом развлечении — техника «дыхания», открытости души, что ли. Этим
нужно управлять, а то «нахлебаешься». Прыгаешь в облака — дыши, идешь на дно, в
быт, — замри. Все остальное происходит запрограммированным чудом: и ты живешь,
и тобою живут. Качество взаимности определяется по-разному: в одном месте
стаканом спирта, в другом — образованностью, высотой воспитания, родовой
памятью. Кому что. Но прыгают все.
Автоответчик взорвался. Позвонила
владелица ресторана, та самая, у которой мы провели вечер в загородном доме.
— Это я. Сына не допускают к
экзаменам. Надо помогать.
Пи-пи-пи… Бросила трубку. Вот это
по-нашему!
В воздухе дурман, пахнет медом. Откуда?
Разве могут сны иметь запах липового меда? Ух ты, деревья цветут! Липы или не
липы? Вроде бы липы, только соцветия покрупнее. Но все-таки что-то не так, не
по-настоящему. Понял: ни одной пчелки на цветках, ни единой! Что-то зловещее
есть в этом намеке природы. Сон во сне лишается деталей реальности.
— Зря русские эмигранты заставляют
своих детей, родившихся во Франции, учить русский язык как основной. Зачем? Они
их ломают психически, а, может, и еще похуже. Искусственно закладывается
ностальгия по несуществующей родине. Соображаешь, в чем ловушка? В том, что
Родина — это не только место, земля, воспоминания и связи. Родина — это язык! У
человека получается две родины. Одна имплантирована ностальгирующими
родителями. Покинутую родину нельзя передавать по наследству детям — это их
ломает.
Таково мнение Эмигранта. Я понял
главное в его «вычислениях»: второй производной от родины не бывает. Это сон,
яд для реальности, опиум для души эмигрантов. Умерла так умерла.
Мой дом — твой дом, а твой дом — мой дом.
Когда я возвращаюсь в квартиру, то всегда сначала скребусь в дверь, тактично
постукиваю, выясняя: есть кто дома или нет? Мало ли, хозяйка может оказаться
неготова. Это замечание логично, потому что касается процедуры входа.
Оригинально другое — логика выхода из дверей. Например, когда я неожиданно
выскочил в комнату после душа из ванной, то в лоб получил сразу же:
— Стучаться надо!
Женщина-друг — это, наверное, как
период репрессий: неожиданности со стороны «простого народа» недопустимы.
Если
жизнь — это круг, то нет у нее ни начала, ни конца, значит, нет первых и
последних. А чтобы они все-таки появились, круг жизни придется разорвать. И в
те моменты, когда движение в разорванном круге меняет направление, первые
становятся последними.
В толпе возникает физическое ощущение
абсолютной «неважности» отдельной человеческой особи. Миллиарды отдельных
голов! В каждой голове булькает и варится нечто — но именно одинаковость этого
«нечто» объединяет головы в готовое «блюдо». Если бы не коллективный сон, не
было бы и коллективной жизни. Даже инстинкты — сон. Правда, не наш собственный.
…Двадцатилетнюю девочку К. мы недавно
похоронили. Я нес гроб и бросал глину в холодную яму. Девочки нет. Сон
продолжается.
Барон уже дважды пересказывал мне
сюжет рассказа кого-то из французских классиков: «Старушка пришла, как обычно,
в свою церковь. На этот раз — уже после своей смерти. А там все родственники,
которые умерли досрочно, улыбаются, приветствуют ее. Сам Господь комментирует
веселье: мол, они здесь только лишь потому, что ты за них молилась! И ты
избавила их от грядущих страданий своей молитвой: они умерли рано и счастливыми
благодаря тебе.»
Говорящие сновидения умеют
гипнотизировать и красиво оправдываться.
Барон из-за болезни почти лишился
движения в жизни. Врач запретил выходить из дома. Барон теперь не ходит даже в
православную церковь, где служит старостой. Бог для него — персона, и это
понятно так же, как детский рисунок. Наша встреча тоже персональна, и Барон
осторожно исследует: есть ли Бог во мне? Персона в персоне. Кто в ком? Так
посмотреть, то весь мир матрёшка, весь мир — Россия.
Уничтожать смерть нельзя, это опасно
для жизни. Атомы и вещество моего тела, листочки на деревьях, органическая
пища, плодородная земля — все это «первотрупики» того, что жило до меня. Я даже
физически, целиком собран из останков, из усвоенной пыли. Я живу ими, они живут
мной. Так, в результате, прибывает «плодородный слой» бытия. Мы все живем друг
другом, и по вертикали, и по горизонтали, и как хошь. Время во времени, слой в
слое; считать количество превращений и составлять мартирологи участников —
занятие бесконечное, оно не охватывает реальности. Поскольку реальностью
является не то, что можно пощупать, а то, что это самое «пощупать» создает —
воображение, зажатое в силу принципов.
Точка. Круг. Шар.
Круг земной жизни разорван, в нем есть
первые и последние. Если последних надоумить и вооружить идеей «справедливого
равенства», они превратятся в грозную лаву, которая всех развернет, а
продолжающих упорствовать — уничтожит.
Круги ада не замкнуты. Величина
«зазора» постепенно увеличивается: между бедными и богатыми, между умными и
глупыми, человеком и нечеловеком. Первые и последние поочередно заставляют друг
друга прыгать через пропасть.
Чем жить? Не проблема. Пропасть легко завалить вещами,
мельтешней и ритуалами. Истратить время на себя, либо себя — на время. Закавыка
в ином: жить-то, зачастую, и «некем»… Нами не живут, и мы потому очень одиноки.
— Это ты Бога ищешь, — определил
Барон.
— А чего его искать, он всегда на месте.
— Правильно. А ты — ищешь.
— Барон, я на нерест поднимаюсь, чтобы
гумусом стать. Понимаешь? Мне, между прочим, не нравится, когда тела людей
сжигают и возвращают природе лишь пепел в сундуках. Жизнь делается меньше!
— Не понял…
Негру-почтальону я не дал на чай один
евро. Не знал обычаев. Я — его «минус». И я на деле доказал, что иностранец, не
являющийся стандартным туристом, работает в чужой стране «на вычитание».
(Хотя во французском посольстве с меня
перед получением визы потребовали справку о «плюсоспособности»: сколько денег
при себе имею? Если меньше малого — визу не дают. Это вам не Россия: плюс-минус
лапоть.)
В обществе «Урал — Франция» тоже
начеку. Спрашиваю:
— Можно я на свою пресс-конференцию
приглашу друзей?
— Хорошо, конечно, конечно! Только
обязательно скажите им, чтобы они сделали в нашем кафе заказ.
— Хорошо, конечно, конечно!
Халява, как пепел, лишает круг жизни
устойчивой целостности.
Вечером позвонила Родина, стала
расспрашивать.
— Не голодаешь там?
— Нет.
— А что голос такой?
— Мыло кончается.
— Какое мыло?
— Ну, то, что ты мне дала с собой в
дорогу. Они ведь носки выбрасывают, а я стираю. Мыло кончается! Нет у них здесь
«Хояйственного».
— Ну, держись как-нибудь.
Родину я люблю, у нас с ней и место, и
время, и язык одинаковые — скоро встретимся. Много языков — много ностальгий,
один язык — одна ностальгия. Мыла бы мне надо.
Жизнь вернулась с работы, из
ресторана, в третьем часу ночи, вид у нее был усталый и очень растерянный.
Пришлось встать, одеться.
— Что случилось?
— Не знаю. Я сидела, как обычно, с
клиентами-друзьями за столиком, пела, вдруг налетела Хозяйка, стала кричать,
хамить, обвинять людей непонятно в чем и гнать их вон из ресторана. Все были в
шоке. Что теперь делать? Я дружила с Хозяйкой, работала в этом ресторане только
из-за нее.
— И что?
— Сына ее к экзаменам не допускают в
школе. Учился отлично, а к выпускному классу вдруг «завихрился», первый
прогульщик стал, вот ему шлагбаум и перекрыли, не зачлась прежняя святость. А
мамаша бесится, школу грозится разнести вдребезги, в ресторане, как фурия.
— Отпрыск в курсе?
— Нет, зачем ему знать проблемы? —
добрая мамочка и так горло перегрызет первому встречному: стресс свой снимет… Это что, нормально?
— Нормально. Она же русская. Она любит
его и поэтому живет вместо него. А француз себя любит и другим живет, как самим
собой.
Мы выпили крепкий кофе. Потом еще
кофе. Жизнь отвыкла от диких выходок людей, пытается думать о хорошем — не
может: симпатия, как дар бытия, штука одноразовая. Патрон хамства выстрелил —
съежилась дружба, сжалась до свинцовой точки, ухнула, полетела, как пуля,
ранила в сердце.
— Любви в Париже нет. Все только и
делают, что притворяются. Интрижки, интрижки! два-три сотовых телефона у каждого
— по количеству любовников или любовниц. Это в обществе не осуждается, потому
что все так живут, потому что — удовольствие! Какая любовь? Когда любят, пару
ничем, даже смертью не разлучить. А тут… Им так удобно, эгоизм научился быть
изящным, утонченным. Но это ведь не то.
— Тебя чего понесло? Четыре утра уже.
— Любви хочу.
Жизнь не заплакала. Суровые и
постоянные перегрузки научили ее экономной уравновешенности; артист во Франции
— беглец по канату, артист-иностранец — беглец по бритве.
— Пацанов терпеть надо, — говорю,
чтобы хоть что-то сказать.
— Почему?
— По себе сужу. В ножки сегодня
кланяюсь памяти тех людей, кто меня, дурака, вытерпел, заплатил собой, своей
выдержкой за идиотские, бывало, выходки. Не опустили, удержали грызуна. Это
ведь урок благородства, тихий и очень долгий. Не было бы меня без них.
— Красиво говоришь.
— Мне бы молчать красиво научиться.
Жизнь, наконец, улыбнулась. За окном
начало светать.
— … Я ведь в деревне выросла, видела
перед собой только кур да коров, лучше всего знаю их характер. Поэтому все мои
сегодняшние сравнения происходят на том же деревенском фоне: большинство женщин
— куры. Это правда, всю жизнь «несутся»: ко-ко-ко! Важничают вокруг своих яиц,
бегают, высиживают, защищают или думают: что бы еще разэтакое «снести»? Куры
хоть активны. А коровы — те просто коровы: всю жизнь траву жуют. Соотношение
«кур» и «коров» в разных странах разное.
— А мужчины с кем ассоциируются?
— Ни с кем. Их нет. Они либо слишком
маленькие для меня, микроскопические, незаметные, как таракашки, либо чересчур
огромные, недосягаемые в своих амбициях, силе, духовности. Ни те, ни другие мне
не подходят. Им тоже не дано любить.
— Эк тебя скандальчик-то раззадорил:
не угодишь.
— Ха-ха! Не угодишь! А никто и не
пробовал!
Кофе подействовал, Жизнь впала в
игривое настроение. Спать! спать! а то случится перебор: с устатку после смеха
— слезки на колесках.
Жизнь почти любит Барона. И Барон
почти любит Жизнь.
— Он бы мне подошел!
Мягкий, отзывчивый, умеющий молчать
красиво. Но он не может «подойти», у него есть Бог, есть жена, и есть врач,
который запретил ходить. Колесо человеческой жизни никогда не бывает круглым.
— Я думала, что мы к Хозяйке еще в
гости съездим, и не раз…
Не съездим. Ниточка оборвалась. Жизнь
смотрит на судьбу, как начальник пароходства.
— Все в этой жизни — пристань.
Приходит срок, и надо плыть дальше, искать новое место для причаливания.
Я понимаю: привязанное отвязалось.
Одна из сторон рубанула так, что связь лопнуа. Что за связь такая? Одних людей
канат вместе держит, других — паутинка. Собственный сценарий бытия архипрост:
почти всегда он настроен на продолжение понравившегося сна жизни, он
бесконечен, как пряжа. В отличие от небесных конструкторов, которые «нами
пишут» совсем не так: п-у-н-к-т-и-р-ч-и-к-о-м!
Быть в страшном не так страшно, как
видеть его со стороны. Поскольку в аду привычка спасает, а сравнение губит.
— Неужели и я буду слепой мамашей?! Не
хотелось бы.
Молчу, как умею. Получается неплохо.
На часах — трудовое утро.
Барон попросил перейти на «ты», от холодных, взимоотталкивающихся «выканий» его передергивает. Экскурсия по
квартире: обои на стенах не видны — плоскости стен всюду, от пола до потолка,
закрыты картинами или стеллажами книг. Диктофон пишет, видеокамера снимает — я
добросовестно, как истинный советский садоогородник, «консервирую» сочный
момент. Дом наполнен следами веков и автографами знаменитостей.
Наверное, в коллекционировании есть
свой необратимый порог, за которым «критическая масса» накопленного разворачивает
течение личной жизни господина коллекционера вспять; он сам становится частью
своей коллекции, не в силах более владеть тем, что завладело им. Насколько
хороши частные коллекции, настолько же скучны казенные!
— Вот мои гитары, вот кассеты с моими
песнями, вот мой пра-прадед, адмирал Беннигсен, вот чай, пожалуйста!
Из соседней комнаты-кухни выглядывает
рослая псина по имени Братик. Входить в жилые комнаты Братику запрещено, Барон
панически боится собак.
Старый магнитофон заедает и я пишу с
досадными техническими перерывами.
— Я немного расскажу о своей родне,
откуда я взялся.
И он на полтора часа зарядил
повествование о генеалогии рода, начав с 900-го года, с викингов.
Есть две памяти: та, что проецируется
на наше сознание, и та, что приобретается только путем личного опыта. В
волшебной реторте живущего человека они перемешиваются, становятся чем-то
единым, чтобы только в таком виде и качестве быть готовыми к дальнейшей
проекции — эстафете родов и эстафете воспитания. У простого русского Ивана
личный опыт богат, а проекция всегда кастрированная — и коротка, и
несодержательна. Поэтому плюсовать и перемешивать бывает нечего: много ли надо?
проверено на себе и — точка. Чем-то похоже на две фазы человеческого сна,
быструю и медленную.
Барон родился в 1944-м году, в Риге, с
нацизмом столкнулся в грудном возрасте.
— Немцы в лагере всех раздели донага,
для дезинфекции: мужчин, женщин, детей. Грудных — отобрали, а потом, помытых,
рядами выложили на бетоне и разрешили матерям искать своих чад. Меня нашел
четырехлетний старший брат, узнал по крику. Надеюсь, что я — это я.
Мытарства увеличивают личную память и,
наверное, вредят «медленной фазе».
Смотрю в иную жизнь, как в клип.
— Это вы кушаете? Пшёна каша. У нас
это африканское блюдо «кус-кус».
На самой верхотуре стеллажа, над
книгами примостился родительский ламповый приемничек, раритет-самоделка отца,
супергетеродин, судя по количеству колебательных контуров, высший класс для
самоучки конца сороковых!
Я дарю друзьям кое-что из своих
привезенных сочинений, книги. Но читать парижанам некогда, а те, кто все-таки
заглядывал в дареные строчки, спрашивают: а почему герой так сделал? а для чего
он поступил плохо? а вы это все выдумали? нет?! а для чего тогда написана
книга? Французы, как дети, их завораживает сюжет, а контекст не интересует
вовсе. Все равно что танцовщице объяснять о пользе радиоволн в ее ремесле.
Кучу оставленных мною текстов Барон и
не читал, только прослушал пленку с мелодекламациями. Дал какие-то адреса, с
кривой улыбкой бормоча невнятное: «Масоны кругом, масоны…» Что ж, пойду к
масонам.
В тот момент, когда я все свое уносил
с собой, и без пяти минут полночь мы торопливо прощались с Бароном в прихожей
его двухкомнатного рая, вдруг погас свет — неожиданно, во всем квартале.
Демоны.
Бегу скачками к последнему поезду на
метро, при этом успеваю замечать потеки у стен, запахи, собачьи «мины»под
ногами, двух негров-любовников, бомжа с хрустящим пакетом, расхлябанный стук
какой-то железки под брюхом мчащейся машины… Я привыкаю к новому окружению, и
привычка, заменившая первое любопытство и любознательность, немедленно обнажает
убогость.
Океан космоса породил рыбку разума;
мечется она, ищет свое место, страшилок боится: глубоко нырнешь — темно
сделается, высоко взлетишь — дыхание остановится. Где же ты, золотая серединка?
Удобное место, удобное время? В жизни или по соседству?
Ребенок все понимает по-русски, но не
говорит.
— Покажи язык, — Мия послушно
выставляет наружу розовое шильце. — У тебя французский язык. А теперь я покажу
свой.
— Се куа?
— Что это? Это, моя дорогая, великий и
могучий русский язык. Видишь, какой большой?
— Уи.
— Хочешь такой же?
— На! На!!!
Жизнь съездила в лес, в избушку к
волшебнику-универсалу. Вернулась, как после реанимации клона, обновленная, усовершенствованная
и повеселевшая. В неведомой для меня избушке анахоретом живет
спортсмен-психоаналитик.
Парижане не купаются. Негде.
Что-то назревает, я чувствую
напряжение в воздухе. Совершенная устала от бездомности, от ночевок по разным
пустым квартирам. Меня следует куда-нибудь деть.
Действия чужака в Париже похожи на
рыбалку: я насаживаю на крючок самого себя и стараюсь аппетитно шевелиться —
авось, съедят. Этим здесь все занимаются. Я сообщил о своем «рыболовном»
сравнении Президенту ассоциации «Франция — Урал», он кивнул, не улыбнувшись.
Видит: «шевелюсь» по-русски, бесплатно, от всей души, а не из рассчета. Значит,
и съесть могут просто так, как принято в России, а когда голый крючок
останется, то «возродившийся» опять на него полезет. В условиях благополучия
искусство продаваться опережает все остальное.
Усы и бороду я постригаю особым
образом, безопасной бритвой, а не ножницами, отчего концы срезанных наискось
щетинок напоминают заточку медицинских игл. Француженки со мной целуются в воздух
— чмок! чмок! — только один раз, укалываются и в дальнейшем — подают при
встрече лишь руку.
— Это твой пояс верности.
Так мне Родина сказала.
Отнес диск с «русскими фотографиями»
(прихватил с собой коллекцию товарища, профессионала-фотографа) в общество
«Франция — Урал». Два часа проговорили о боге и людях, пили кофе, писать
ходили, как в России, «на двор» — в
соседний дом, в клуб престарелых; своего туалета ассоциация не имеет.
Нынче всенародный праздник — День
музыки. Совершенная припорхнула домой почистить перышки перед вечерним
муз-гулянием. Я получил задание: «Съездишь в пустую квартиру к моему другу, вот
адрес, вот код двери с улицы, вот ключ от его почтового ящика, в ящике найдешь
ключ от квартиры, возьмешь и поднимешься на второй этаж, — самая правая дверь
от лестницы. Посмотри аппартаменты, если понравится, переедешь туда жить, там
есть Интернет.»
Поехал. Проник. Достал. Иду на этаж, а
двери расположены почти что по кругу… Которая тут «самая правая»? Осмотрел все скважины, сравнил с профилем
ключа. Выбрал, как мне показалось, самую подходящую дверь и полез ключом в
замковый механизм. С той стороны двери заорали истошным женским дребезгом! Я —
извиняться. Она — орать того пуще. Потом затихла, куда-то сбегала, а
вернувшись, заговорила вдруг очень ласково. Я опешил: сейчас приедет полиция, и
иностранца «домушника» возьмут на месте с чужим ключом в кармане. Несколько
дней в каталажке — это реально. Дадут, наверное, сделать один звонок, я в кино
такое видел: «Здравствуй, Совершенная! Я в тюрьме.» Ретировался, извинившись.
Упал в метро, доехал до парка, где растет гигантский платан, сел на скамейку,
гляжу на уточек в каменном озере: ушел!
Да, с французской беспечностью нужно
быть осторожнее; расслабился, решил, что уже могу шнырять, как зайчик. Рано, не
долго музыка играла…
У меня стресс. Мне нужен
психоаналитик.
Гоним по ночному Парижу, Жизнь за
рулем, с «бензином в крови» родилась: ас! В одном из мест дорога с
односторонним движением вдруг делится на две самостоятельные параллельные
полосы, разделенные аж гранитным поребриком. Машина виляет на левую полосу.
— По какому признаку? — тычу я в
дорогу пальцем.
Женская логика — калейдоскоп: крутнул
— гляди, что получилось. Жизнь, разумеется, зрит в корень и объясняет сразу
самую суть.
— У нас в Париже мэр голубой.
Хорошо. Едем дальше. Пытаюсь уловить
связь между особенной дорогой и особенным мэром.
— Он красоту любит. По правой ездят
только такси и автобусы. Это его предложение.
— Он голубой по слухам?
— Нет, сам об этом публично заявил. Молодцы,
парижане! Их не интересует: кто, с кем и как? Им человек понравился. Молодцы.
Уважаю.
Начал различать запахи города:
цветочные, человеческие, нос подстроился под здешнюю «гомеопатию» в мире
обоняния. Здесь даже выхлопные газы машин пахнут утонченно, но многие
парижане-велосипедисты все равно ездят в респираторах.
Француз прислал в подарок большой
кусок мыла. Удивительно: я никому, кроме далекой Родины, о кончине
пенообразующих средств не сообщал. Очевидно. я распространяю вокруг себя флюиды
гигиенического толка. Все-таки какие чувствительные люди вокруг, экстрасенсы,
все о моей жизни знают!
Француза опять в Россию понесло,
доснимывать репортаж. А Совершенная боится чего-то неясного. За Француза
переживает заранее. А вдруг у него там мыло кончится? Кто подаст? Я так думаю,
что это у них — любовь.
… Она пришла с жареной курицей.
— Режь и ешь.
Я умял половину.
— Ключ принес?
— Да.
Виновато улыбаясь, я рассказал о
казусе с дверью. Совершенная сначала нахмурилась, потом покраснела.
— Ой! Я забыла тебе сказать, что идти
нужно в следующий подъезд.
День музыки в Париже — это название
отражает время происходящего неточно: это ночь музыки. На всех углах до утра
бабахали по всему, что звучит. Очень красиво и очень громко. Чуть-чуть походил
по улицам, но надо быть молодым фаном, чтобы выдержать этот музыкальный шквал
до утра: куда ни глянь — всюду одинаково хорошо. Русского это утомляет точно
так же, как «все одинаково плохо». Активность нашего любопытства зависит от
перепадов, контрастов, углов и ударов лбом об стенку.
Был дождь, холодно, я нашел в домашнем
гардеробчике какую-то шерстяную безрукавку, надел. На улице Совершенная
мимоходоми заметила:
— В этой курточке Француз на Эверест
поднимался.
Сразу стало тепло.
Не показывай тому, кого поднимаешь ты,
того, кто поднимает тебя.
Не стоит даже намекать на то, что тебе
известна изнанка другого человека, — инстинктивное чувство отвращения к
«изнанке» заставит собеседника закрыться.
Воин останавливает войну, убийца рушит
мир.
Оставлю сформулированные афоризмы без
комментария — это заметки на полях, уроки чувств и молчания.
— Съешь апельсин.
— Спасибо, не хочу.
Совершенная что-то прикинула в уме,
холодно оценила степень сообразительности воспитанника и решила: уже можно.
— Нельзя говорить «не хочу», это
получается очень близко, это насильно «приклеивает» к тебе партнера. Лучше
выразить свой отказ иначе: не хочется. Действие переводится во вкусовую
область, с которой, как известно, не спорят. Чувствуешь? Сразу же появляется
удобная, и в то же время не мешающая общению дистанция. Французы очень
щепетильны ко всяким таким тонкостям. Могут отреагировать отрицательно и
навсегда на неверное слово, интонацию, даже на взгляд. Особенно аристократия.
Понимаешь?
— Что-то апельсинчика хочется…
— Молодец.
Позвонила Княгиня. Я услышал ее голос
из засады, по-партизански, когда она начала диктовать на громкоговорящий
автоответчик обращение к Совершенной. Тут я радостно схватил трубку,
переключился на живую связь и возбужденно заголосил в темпе Дня музыки:
— Здравствуйте! Это я! Очень рад вас
слышать!
Княгиня от неожиданности поперхнулась.
Но все обошлось благополучно благодаря немалой дипломатической выучке одной из
сторон.
— До скорого свидания!
— Да, да, до скорого.
Еще один звонок. Родина сообщила, что
пришло-таки лето, что полет нормальный, что дети растут.
Звонок от Жизни. Она купила корень
женьшеня, заварила и напилась. Времени без пяти минут полночь. Сейчас начнется!
— Я тебе вот чего звоню: хочу про
мужика одного русского рассказать. Соловушка из России, его жена привезла во
Францию, попытать здесь певческого счастья. Но я не об этом. Этот мужик ко мне
за разъяснениями пришел. Как, говорит, понимать: «Подвозит меня ночью после
концерта француженка, я с ней прощаюсь, а она не отпускает — ко мне, мол,
пойдем. Я ей в сторону пальцем тычу: не могу, жена волнуется, ждет. А она тогда
как напрыгнет, как схватила мой палец в рот к себе и давай чмокать! Я ничего не
понял: зачем она так поступила?» Эй, ты меня слышишь? Хорошо. Это ведь ключ: она его хочет, а он ее
не понимает, он хочет к жене, где они вместе не будут хотеть друг друга. В этом
вся Франция, в этом вся Россия! Ха-ха! До сорока лет мужчина ищет разврата,
после сорока ищет мудрости. Соловью было за сорок.
Потом Жизнь «перескочила» с одной темы
на другую, без малейшей инерции, как электрон, сменивший орбиту, разом. В
принципе, можно выстроить теоретическую модель, в центре которой располагается
тяжелое ядро женских желаний, а вокруг него бешено вращаются и скачут легкие женские
мысли. Ядро ощутимо, но исследовать его можно, только разбив.
— Моя мама сирота была. Никого не
слушала, первой в нашей деревне корову заимела, хоть и «низ-зя» было. Нас ведь,
русских, доброта объединяет, потому что зло кругом в России, смерть за людьми
охотится. А здесь… Один Француз добрый. И семья у них добрая. Богатая и добрая
— большая редкость для людей. Француз сам за своей смертью гоняется.
На этой моцартовской ноте мы и
пожелали друг другу спокойной ночи. Вспомнилось лишь еще замечание Барона,
профессионального франко-русского переводчика: «Даже одинаковые слова вызывают
у русского и француза разные ощущения. Скажет русский: люблю! — и всякий
соотечественник подразумевает за этим нечто высокое. А для французского уха:
люблю! — сигнал к действию.»
Да уж. Одни на земле с размаху
соединяются, чтобы взлетать повыше, другие на небесах венчаются, чтобы падать
свободно и долго.
Готовность немедленно импровизировать
продуктивнее и ценнее обязательности — строгому следованию в намеченном
расписании; важна только цель, пути неисповедимы. Жизнь очень быстра, без
интеллектуальных излишеств: «Я могу это взять (дать), так как это мне полезно.»
Свет личной пользы нагляден и прост, как прилавок. Люди друг с другом
сторговывают свою личную выгоду без посредников. И государство признает и
поощряет этот эгоизм. Отчего скорость «их» суеты по сравнению с нашей —
сверхфантастическая. Движений много, но ни одного «просто так».
В России люди не могут, не научены, не
умеют общаться именно друг с другом — им всегда нужен «третий», тот или то,
куда они совместно «вывернутся», чтобы так найти общее в понимании, а уж затем
только действовать. Много от этого разговоров, философии, обмана и демагогии,
перспективных планов, переименований и перепалки; действий — нет. В лучшем
случае на роль третьего берется слепая, ритуальная религия или бутылка. В самом
худшем — сюда лезет государство. Людоед.
На троих в России — это: я плюс я и
плюс «оно». После чего и получается печально знаменитое наше: все, как один. Во
Франции есть «он и он», «она и она», «он и она». Мало главной пакости — «оно»!
— Ненавижу Россию! Я там едва не
повесилась! — говорит Жизнь очень часто. Это ее самый быстрый «электрон», самый
древний, ближе всего притянутый к неведомому ядру эмигрантской души.
И наоборот.
— Люблю Россию! Очень люблю Россию! —
Француз сам, как электрон, носится в рискованной близости к источникам опасной
русской гравитации.
Техника помогла мне записать
многочасовую беседу с Бароном. Его жизнь удивительна, она вся состоит из череды
ярких вспышек, неслучайных случайностей, удивления, побед над собой и доброты.
Я уверен, что чужих жизней на земле не бывает, поэтому с легким сердцем положу
когда-нибудь на бумагу и его мозаичную исповедь. Как документ времени, как
свидетельство русского духа.
Из всего того, что я дал Барону на
прочтение и критику, он не прочёл ни строчки.
— Чукча не читатель, — сказал он и
улыбнулся, как последний солнечный денек перед зимой — тепло и прощально.
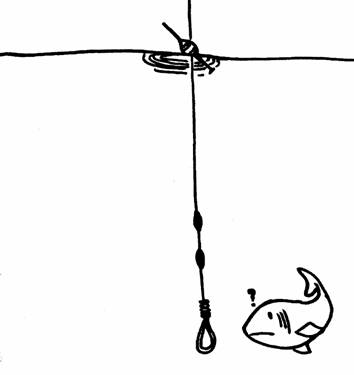
Феодализм в мыслях означает феодализм
в действиях. К теме «третьего» в России придется вернуться — эта мысль
назойничает под черепом, как насекомое. Щас прихлопну, если смогу.
Писатель Одоевский в своих дневниках
обронил по поводу русских: «бесстрашные духоиспытатели». И был восхищен своим
наблюдением. Так же, как французы восхищены тем, что они бесстрашные
естествоиспытатели. Каждый упражняется на свой лад. Однако, чем выше точка
зрения наблюдателя, тем меньше у него возможности сравнивать одно с другим;
философия чувств и философия мысли интернациональны, великие французы, великие
немцы, великие англичане или великие русские — одно. Они, как листья,
синтезирующие кислород на планете, создали, не сообщаясь между собой в
пространстве, атмосферу причин и следствий человеческого сна — «кислород»
смысла, надышали всем остальным интеллектуальное небо, и день, и ночь.
Миром правят не вожди, а представления
о нем. В России эти представления, к сожалению, не находятся внутри общества
(как при общинно-родовом строе) и, чаще всего, не находятся внутри человека
(как того требует понятие Личности), поэтому всегда легко вымываются,
делегируются во что угодно третье — в заёмные формы жизни, которые, разумеется,
не имеют ни общественной, ни личной твердости и управляют всем реальным с той
же безоглядной легкостью, что и фантазия. Русские иронично говорят: «Без
бутылки не разобраться!» Но они не шутят: это — метод.
Чтобы поступить прямо, избавиться от
непродуктивных колебаний, разум обычно командует сам себе: третьего не дано. И
— действует,не мучаясь выбором и не сожалея, как того и требует само устройство
нашего дуального мира представлений. Однако Россия без «третьего» — не Россия:
фантазия здесь кормится реальностью, а не наоборот. Все по-людоедски питается
«человечинкой» — конторы, богоугодные заведения, вампироподобные службы, и даже
приватные отношения. Человечность в казенном мире широко декларируется, но это
только голословие, приманка, подсадная утка в людоедской охоте по-русски.
Без бутылки не разобраться! Русское
государство неоднократно пыталось устранить внутренних своих «конкурентов» —
убрать, уничтожить бутылку и религию, свободу и волю, чтобы целиком и
единолично встать на их место: «Я! Я все решать буду! Через меня сообщайтесь!»
От того и бунты: долой людоеда! долой самозванца-мироеда! Только Некрасова не перещеголять:
«Глянь-ка, барина несут! А за гробом — новый!»
Сегодня происходит опасное слияние
русских «сверхтретьих» — государства и религии: грядет охота на ведьм; русский
демон страшен не ракетами — он есть апокалиптический знак равенства между всем,
что течет и изменяется. «Течь» должно только через него. Призвание «знака
равенства» — не изменять, а упокаивать навеки.
Описание действий порождает контекст
чувственности, описание мысли создает особый вакуум между словами — контекстную
тишину, необъяснимую возможность узнать новое из ничего.
О тишине можно говорить бесконечно.
Она возникает между жизнью и смертью, между словом и словом. Зачем мы живем?
Любые ответы бессильны. Но легко просто видеть результат бытия: жизнь слагается
в «прибыль» — в города и книги, в музеи и границы, в подвижническое искусство
созидателей и в самозабвенные технологии разрушителей. Одна жизнь — борьба за
«прибыль» себя самого, много жизней — «прибыль» истории, места и времени. Ни с
каким «третьим» подлинной жизнью лучше не делиться. Обворует, сожрет. Третьего
не интересует ни сам человек, ни его гнездовье. Единственная страсть посредника
— ненасытность. Мучаясь этим видением и этой брагой русских мыслей, только и
воскликнешь: «Чтобы спасти мою Родину, я готов уничтожить государство!» Не
ново. Беда в том, что демон вечен. «Третий», конечно, есть и в других
землях-государствах, но нигде власть ему не принадлежит так же безраздельно,
как в России. Чума обитает МЕЖ нас.
У каждой страны и у каждого человека
есть своя бедность — пропасть, через которую надо прыгать. При жизни или после
смерти. Но следует учесть: при жизни попыток может быть много, а после смерти —
всего одна.
Стефания поставила на сцене большой
спектакль, Совершенная в нем играет и поет. На «смотрины» собрались директора
всех парижских театров, чтобы купить постановку. Долго в конце аплодировали
идеям и оригинальности ребят. Но не купили. Деньги участвуют лишь в том, что
стереотипно, что узнается и ожидаемо всеми и может быть гарантированно продано.
Стефания очень расстроена: душа сама видит свою цену, а деньги — нет.
Я видел запись спектакля на
видеопленке. Все актеры в академических костюмах, как бы голые, чтобы никакие
костюмерные ухищрения не мешали голым идеям играть в обнаженную жизнь.
Запомнилась сценка. К голой
девочке-нищей, руки которой связаны лентой нужды, подходит та, что не может
дать ей денег, но дает ей нечто большее — она дает ей Музыку. Это — поющая
Совершенная. И нужда спадает, руки свободны, нищенка встает в один ряд с
поющими — их уже много! Конец? Нет, не конец еще: песня хора пробуждает к жизни
маленького человечка, целиком сделанного из газетной бумаги; кукольный
человечек — кукольная жизнь. Но он идет! Он проснулся! Он идет к поющим людям!
— Документы! Документы, тебе говорят!
Покажи бумагу!
Это грубый окрик, обращенный к
газетному человечку. И он в точности исполняет приказание: к ногам поющих
слетают клочки каких-то никому не нужных бумажек… Человечка больше нет.
Жалко Стефанию. Иметь в качестве
заказчика свою внутреннюю потребность — большое мужество. Иметь рядом друзей,
разделяющих это подвижничество, — счастье. Счастье и мужество неразлучны не
всюду, а только в неволе.
Мне кажется, должна существовать
«психология вещей». И эта психология — явление глубоко национальное. Речь,
конечно, не о национальных костюмах, и тому прочее. Другое: пристрастие к дарам
ширпотреба. У большевиков — маузер, у поэтов — шарф и шляпа, у американцев —
жевательная резинка. Люди «рассекречиваются» через свои привязанности, вещи —
это изнанка нашей жизни, а не ее лицевая сторона.
Велик соблазн перефразировать
заезженную сентенцию применительно к самодовольному обществу: я мыслю,
следовательно, я существую плохо. Плохо! Уравновешенная, здоровая жизнь ни в каком
дополнительном «самовыражении», кроме самой жизни, не нуждается. Как же так?
Нонсенс?! Но и Барон подтвердил: «Знаешь, с тех пор, как я встретил свою жену,
душа успокоилась, и я совсем перестал писать стихи. Это плохо?» Хорошо, Барон,
хорошо! Здоровая душа стихами не выражается. Все поэты — Пьеро; боль научила их
особому колдовству — заговаривать боль.
Россия — поэт своего нездоровья. Кто
возразит? Больных душой и думающих о предназначении Отечества прошу отойти от
знака вопроса: это — не виселица.
Французы купаются в жизни, русские
купаются в думах. Вверх головой утонуть проще, чем вверх ногами.
Пришел хорошенький мальчик, от
чая-кофе отказался, просит что-то ему дать, но я не понимаю что именно: оба с
плохим английским. Позвонил Жизни: «Спроси, чего ему надо?» Жизнь «повисла» на
мальчике минут на десять. Он ушел очень довольный, а я продолжил телефонный
«вис»: «Ну?» — «Его папа очень любил меня, у мужика из-за этого разболелось
сердце, хирурги вскрыли ему грудную клетку и вставили внутрь электростимулятор.
Жить может, а как до другой жизни доходит — не может: сердце не тянет! напор
крови не тот! Трагедия… Так и расстались.»
Жизнь объелась женьшенем.
— Тебя что беспокоит, милая?
— Либидо!
Круг моих знакомств невелик, и он
достиг тех максимальных границ, какие возможны для приезжего в моем положении.
Ах, знакомства, знакомства… Чей-то круг знакомств — лишь непрерывное
«знакомство» со своим собственным отражением в людях, чей-то — империя свободы.
Мой круг общения в количественном выражении — не больше числа участников
поездки в маршрутном такси. Я знаю дату и место своей высадки. Продолжаю стричь
бороденку очень колко. Никто со мной не целуется.
— Тебе салат с соусом или без?
— Так же, как и тебе.
— А все-таки? Должен быть вкус.
— Нет вкуса, я неприхотлив в еде.
— Почему? Как же ты выбираешь?
— Мой выбор находится не во рту.
Совершенная умеет помогать. И еще как!
Интересно, умеет ли она уступать и слушать? Пока я видел только одно: с
сопротивлением другого она не борется — просто исчезает, как фея, волшебно и
бесследно.
— Так все-таки с соусом или без?
— С соусом.
Повсюду в Париже обнимаются парочки,
сидят верхом друг на друге, трогаются лапками, целуются. Ни разу не видел
ничего противоестественного или извращенного (того, о чем в страшных книжках
читал), ориентация у парочек нормальная: он и она. У них по-природному свободны
на улицах люди, а у нас только дворняжки.
Прочитал одну из сказок Барона, она
заканчивалась словами: «Несмотря на сплошную темноту, никогда не было страшно.»
Жизнь заварила мне женьшень, оставила
Мию и умчалась на ночной концерт: «Выручай, хочу посмотреть, кубинцы приехали!»
Сижу за компьютером, скучаю и
размышляю о дне завтрашнем. Это женьшень виноват. Завтра ночь Купалы. Люди в
«академических костюмах» должны прыгать
в воду. Забытая забава! Всякий культ неизбежно превращается в явление культуры.
Но для этого ему необходимо умереть.
Жизнь — неиссякаемый источник
рассказов и наблюдений, один из моих экскурсоводов «по ту сторону» всего
официального. Жизнь и Совершенная — моя русскоговорящая Франция.
— Я когда мужика встречаю, то первым
делом смотрю: носом дышит или ртом? Почти все мужчины, живущие в Париже,
аллергичны. Слабые существа! Ха! Если ртом дышит — это не мой парень. У него же
кислородное голодание, мозг не питается, значит, тупой. А я тупых не люблю.
Мы говорим, как глухой с глухим,
каждый о своем. Это уже полная адаптация.
— Ваши машины выгоднее, наверное, в
России покупать, дешевле, если таможня не обдерет.
И уже не два глухих.
— Воровать нехорошо.
— Это вынужденная хитрость.
— Нет, это воровство. Государство
специально так сделано, чтобы не воровали. Во Франции ворам руки рубили, народ
на этом воспитан, и здесь доверия столько, что люди в нем находятся целиком. А
иностранцы воруют. Особенно русские. Стащит из магазина чего-нибудь и даже
похваляется перед другими. Хуже всех те, что слушают и радуются. Они как, как…
— Тараканы?
— Тараканы? Да, тараканы! Французские
прилавки от них не обеднеют, но может обеднеть накопленное доверие. Как материя
в которой я нахожусь. Тараканы делают дом нечистоплотным. Да!
Барон вчера ехидно процитировал
расхожую здесь поговорку-самоиронию: «Эгоист — это тот, кто обо мне не думает.»
Снова глухой и глухой.
— Я скоро должна квартиру от
государства получить, встала на очередь еще во время беременности.
Трехкомнатную надо ждать от пяти до десяти лет, а двухкомнатную — только три
года.
— А сколько Парижу лет?
— Там и квартплата меньше, и дочери
жилье оставлю.
— Лет-то сколько?
— Кому, мне? А, Парижу?! Не знаю, надо
будет спросить у моего массажера.
— И заодно уж спроси у своего
«массажера», Париж больше мужчина или женщина, каков психотип города?
Окраска беседы прихотливо меняется,
как цвет у осьминога. В зависимости от фона, то есть, в зависимости от окраски
и рельефа темы.
— Нельзя, не поймет, будет мучиться.
Нельзя задавать людям неизвестные вопросы.
— А что, здесь принято задавать только
известные?
Пауза, долгая пауза, какая случается
среди людей, слушающих и слышащих больше, чем может сообщить человеческое ухо.
Не глухой и не глухой — это уже
зрячесть в мире безмолвия.
— Ха! Хороший вопрос!
В России вопросы для того и
существуют, что ответа на них нет. Очевидно, во Франции вопрос задается для
того, чтобы на него можно было красиво ответить, показать себя. Изящно, но
слишком уж пресно для славянского характера. Воровская русская натура таких
кандалов не выдержит: надо бы за тридевять земель на чем-нибудь бесплатном
слетать, чужую принцессу или Жар-птицу сцапать, чтобы потом госработник, царь,
например, отобрал добытое в свою пользу — и вот тогда уж начнутся самые сладкие
мысли: что делать? кто виноват? Справедливости захочется, в царя стрельнуть
захочется. Так и живем.
Русский вопрос абсолютно смертелен.
Ответа на него нет.
— Ты кто? — кавалеры меня спрашивают.
А я не знаю, что ответить, глаза опускаю, краснею. Я не знаю: кто я? Для
француза рассказать о своих родственниках пяти-шестивековой давности — честь
великая, они к этой информации очень трепетно относятся.
Память отшибают аварии. Как у Аник.
Русскую историю опустили очень сильно, до овечьего равенства. Совершенная на
«блошином» рынке купила книжицу с картинками для русско-французских детей,
учебное пособие образца 1973 года. Махровый социализм, холодная война, а в книжице
очень по-доброму написано: «В советское время русским людям запретили помнить
свое прошлое, своих дедушек и бабушек, которые жили при царе и верили в Бога.»
Жизнь загрустила.
— Я тебе про свою маму расскажу. Она
сирота. Было трое родных сестер, всех власть специально разделила и поместила в
разные детдома, всем записали в документы совсем другие имена и фамилии — чтобы
потом не искали друг друга, чтобы «комбойцы» получились без родственных
изъянов. Мама не знала, что она — это не она, что незнакомые имя и фамилия в
документах, которые она впервые услышала и прочитала на выпускном вечере
старшеклассников детдома, поведут ее
дальнейшую жизнь. Мама очень сильно плакала, но ничего нельзя было
изменить.
Вяжу и я свое лыко в строку.
— Россия относится к своим деткам, как
мачеха, как злая чужая тетя. Это — огромный детдом, сиротское место.
— Ты так думаешь?
— А ты забыла? России во мне куда
больше, чем меня в ней.
— Это…, это… мощно!
Жизнь все позабыла, отрезала черный
свой хвост, отреклась. Она даже мыслит теперь на другом языке. Я не ее
практика, хоть и дышу носом, я для нее — кино.
Каждый смотрит в себя самого: слепой и
слепой.
— Здесь стоянка запрещена, но мне надо
выйти к моему массажеру.
— К массажисту.
— Ну, да, к нему. Если придут менты,
молча заведешь машину, объедешь круг и встанешь на это же место.
Француз с друзьями лазает по самым
высоким парижским соборам и храмам, до самого верха, туда и обратно. Полиция,
если не успела перехватить озорников-экстремалов внизу, в дальнейшее восхождение
уже не вмешивается: берегут жизнь смельчаков, не раздражают напоминанием о
правилах, не отвлекают от поединка с очередной смертью.
Высота кружит голову.
— Француз очень хороший, он меня замуж
зовет, но… Знаешь, когда к нему приходят друзья, он с порога заваливает их
сообщениями о своих подвигах. Я этого боюсь.
Совершенная собирается везти Француза
в особое путешествие — к маме в Россию. В самую яму. Там нет Гималаев, но люди
все равно погибают от слишком разреженной атмосферы, от медленного удушья. Вы когда-нибудь
видели огород в полтора квадратных метра? Из окна щелястой маминой «хрущёбы»
таких пятачков, ее и соседей, — до самого до черного сарая, что напротив. А
люди ковыряются — хорошо им. Наши люди. Маму кормит коза Белка, чистенькая, с
человеческим выражением во взгляде, ласковая, белая-пушистая. А на козьем лице
— улыбка Моны Лизы. Я думал: почудилось. Сфотографировал — нет, не почудилось:
возвышенная красота на козьем лике. Первый раз такое видел. И Француз, бог
даст, разглядит, зайдет, согнувшись в три погибели, в стайку и — разглядит. В
русских ямах поразительные чудеса водятся! Страна такая: Чудь!
— Он людей не любит за то, что их
очень много стало.
— Ты говорила.
— Да. Он никого не слышит.
— Ну и что? Он же творческая личность,
из него и так избыток хлещет. Всякий творец — тетерев.
— Он говорит, что я нужна ему.
— Хорошо.
— Вот это и пугает.
Совершенная в большом смятении. Судьба
предлагает совершить новый шаг, но слишком уж часто сегодняшнее «люблю»
назавтра оборачивается петлеподобным «терплю».
— Самолюбие делает человека глухим и
слепым. Особенно, если человек не пуст.
— Все мужики эгоисты и самолюбцы.
— А мне что делать?
— Не говори «нет».
Творец всегда одиночка, и личная жизнь
может подрезать ему крылья под самые лопатки. Где взять умение и силу на этот
немыслимый «высший пилотаж» — оставаться собой, находясь в паре с другим?
Законы искусства беспощадны, как огонь, они — вне пола.
Совершенная любит Француза, он любит
ее, Шекспир угадал: «Любовь и голод правят миром» — классик вычислил формулу, в
которой, как в точке, сходятся двое: высокое и низкое. Вместе они порождают
страх.
— Тексты в книгах Француза
описательные, или он старается постичь большее?
— Пожалуй, описательные, хотя, есть и
размышления. Э-э-э! Чем умнее говоришь, тем меньше у тебя читателей. И, вообще,
скажи, почему люди хотят «изречься»?
Без иронии о серьезном не скажешь.
— Ну, так делал Мессия: первый смог
сказать то, что распечатало уста остальным. Научил силе слов язык и душу.
Теперь все так делают.
— И?
— Все ждут Второго пришествия, думают,
что Он еще что-то скажет. Не дождутся, Он уже все сказал. Второй раз Мессия
придет с зашитым ртом. Он опять придет помогать людям, облегчить их страдания —
Он будет их просто слушать. Вмещать.
Совершенная вздрогнула.
— Я не хочу «вмещать» никого и не хочу
сама никуда «вмещаться». Мне еще своей жизни выше крыши хватает!
О том и речь: судьба — это азартная
игра «в темную» с самим собой.
— Не говори «нет»…
— Ты что, тоже курсы по психологии
проходил?
— Нет.
Меня на несколько дней переселили в
квартиру к Бену, юному барабанщику. Бен в отъезде. Мимо злополучного подъезда,
где случилась ошибка с ключом и дверью, хожу на цыпочках. Кстати, в тех домах,
где я бываю, всюду есть Африка: музыкальные инструменты, картины, божки. И на
концертах, в клубах африканскому звуку — полный вперед: ритм, сила, молодость!
Заунывная Россия, увы, такой культурной экспансией похвастать во Франции не
может. Балалайка да деревянные ложки — вот и все, что звучит иногда на земле
мушкетеров.
Унитаз у Бена без «сидушки»,
электрочайника нет, компьютер без кириллических шрифтов, диван не раздвигается,
соседи страшные, в квартире холодно, а в голом холодильнике — два холостяцких
яйца. Велено продержаться два дня.
Потом поедем к Княгине на поезде:
утром — туда, вечером — обратно. Совершенная заплатила за билеты 280 евро. На
эти деньги в России моя семья жила бы месяц с лишним, включая квартплату и
прочие расходы.
Напрашиваюсь неловко в финансовые помощники.
— Возьми у меня доллары. Я их из
России привез.
— Буду совсем в гэ, скажу. Пока все
нормально.
Совершенная — моя приглашающая
сторона, она хозяйка и действует, как хозяйка; я чувствую себя альфонсом, от
которого ничего не ждут и ничего не требуют. До меня в квартире Совершенной жил
кот Тюня.
Ладно. Дареному унитазу в… э…, ну, в
общем, не смотрят.
Совершенная сильнее меня и потому
восхищает. Я хочу ей хоть в чем-нибудь помочь, но не представляю, в чем и как.
Поэтому, как Буратино перед Мальвиной — просто слушаюсь, наивно полагая, что
это ей доставляет удовольствие. Даже заискиваю.
— Мужчины ведь, как дети.
— Детей я сама наделаю! Мне мужики,
которые все сами могут, ценнее.
Утёрла. А сам думаю: ну, погоди, приедете
вы с Французом в Россию! Франция — не моя территория. А вкрадчивый кто-то
внутри меня смеется: а Россия — твоя? Поневоле запоешь заунывное, глядя на
частную грядку размером с могилу, под балалайку и ложки.
И вот еще что: репродуктивная функция
людей во Франции — тема культовая, стараются в этом деле и стар, и млад больше
всех в мире. А детей мало. Это ведь, наверное, признак чего-то?
Если я правильно чувствую, французы,
действительно, не любят «тяжелых» вопросов: почему? каков смысл? для чего? Достаточно:
кто? когда? с кем? сколько? Причина жизни во Франции немая, зато как звучно и
красочно ее следствие! То есть, реальность.
В России наоборот: сны говорливее
жизни. Во сне «тяжелый» вопрос, как пушинка! Любую тему поднимем на дыбы! И
бросим… А чего ее жалеть-то? Сон ведь!
Побывал в руской книжной лавке: книг
много, очень много, покупателей мало, очень мало. Поговорили, получил визитку.
Тут к прилавку подходит ветеран-славянофил образца эпохи Александра-I и
спрашивает.
— У вас есть книги, изданные
Миклухо-Маклаем?
Продавец буднично отвечает.
— Есть.
Я соотнес читательско-писательскую
очередь во времени и понял, что черед нынешних сочинителей придет не раньше
2250-го года.
Глупость присуща только обывателям. Не
стоит оскорблять тех, кто создал шедевры зодчества вокруг меня, кто не
«разрушил до основания» то, что принадлежало предкам, кто дал миру литературу и
науку. О какой глупости мне говорят, кивая на веселый народ в пестрых одеяниях?
О моей, может быть?
Конечно, у всех где-нибудь свербит. Но
это еще не глупость. Если свербит в голове — это русский.
Мысль является посылом для действия,
действие, в свою очередь, способно разбудить следующую мысль; жизнь — игрушка
заводная, надо все время вертеть ключик, чтобы она не остановилась. Хуже всего
бездействие, самая страшная усталость — от лени.
Я сижу в пустой квартире Бена и тупо
пялюсь на композицию в углу: африканский тамтам рядом с пюпитром. Смешно: они
тут, что, по нотам барабанят?
В детстве моя бабуся неоднократно
наставляла внука: «Деньги человеку даются не для того, чтобы он их тратил».
Истинно так. Деньги у меня есть, но в магазин я не иду: скучно обслуживать свой
желудок. Аскеза — дело полезное: очищающее и возвышающее; в питании хорошо быть
монахом. С этой тоскливой уверенностью я лежу под одеялом до двенадцати дня.
Думаю о чем-то. О чем? Конечно, о еде. Монаха из меня не получилось, крадусь к
буфету, нахожу порошок какао с сахаром и окаменевший хлеб, кипячу воду и
приступаю к употреблению найденного: жить становится лучше, жить становится
веселее. Кого это я сам себе напоминаю сейчас? Ха! Я знаю кого, домашних
насекомых — они живут тихо и питаются всем.
Одиночество очень отзывчиво. Если ты
полюбишь его, то оно придет и останется рядом навек. Одиночество — это один из
путей пробуждения. Глупость хохочет от карнавального счастья, а одиночество
чертит формулы «мира в себе».
Человек, как водонапорная башня; если
удается перекрыть утечку жизненных
энергий в животной основе, блокировать «низ», то соки жизни вынуждены
подниматься по стволу бытия все выше и выше. В этом искусство делания себя.
Глупость разумна, и монахи это знают. (Ишь, как на чужой-то какаве заговорил!)
Семя! Вот где загадка Создателя! Семя
таит в себе сон бытия. Разбудишь семя, и на сон нарастает явь, слепая плоть
подчиняется силе схемы: одинаковые зерна — одинаковые сны. Сон ныряет в
реальность и проходит свой путь — от зерна до зерна — с умножением. Погубить
по-настоящему — это погубить семя. Глупцы, в отличие от дураков, не трогают
главное.
Идти мне некуда. Любопытство спит.
Феномен человека в том, что память
всех зерен сразу заложена в нем. Поэтому человек полностью зависит от воли и
волны «резонанса» того, кто его будит. Что разбужено, то и вырастет. Плоть
вторична, поэтому понятна ее ярость в оспаривании первенства называться Жизнью.
Ода одиночеству сладка и бесконечна,
слившись с людьми, ты оказываешься внутри стада, отстранившись, ты воображаешь
всех — в себе. Сон во сне. Не всякий сон питается плотью. Есть хищники — сны,
питающиеся снами!
(Я разорил хозяина квартиры на второй
ковшик какао, нашел в шкафу бульонные кубики. Теперь у меня есть будущее.)
Сложное устройство обладает простотой
включения. Нажимаешь на кнопку электронного устройства и входишь в волшебное.
Ложишься с любимой в постель, и Вселенная трепещет и дрожит, играя симфонию
сфер. Случайная капля попадает на зерно, и начинается драма жизни. Высшая
простота непостижима.
Свербит на сердце, тянет домой,
надоело жить на вокзале. На каком вокзале? В чужом месте и в чужом времени.
Хорошо, что у меня есть обратный билет в свое время и в свое место. Поэтому
ожидание и есть здесь мой «смысл». Его могло бы подменить на короткий срок
любопытство, но ожидающие нелюбопытны. Любопытство спит? Нет, оно мертво там,
где жизнь разучилась жить. Мне нравится быть продолжением интересов другого, но
никого рядом нет, и я глохну, как мотор без искры.
Надо возить Родину не в себе, а с
собой: жену, детей, друзей… Но тогда в них непременно проснется любопытство, и
энтузиаст-путешественник будет вынужден стать его продолжением. Это мука —
оживать после смерти. Порабощенное одиночество жжет дневники.
Для чего перемещаться, пожирать
семейные накопления? Во имя заработка? Так его здесь нет и, скорее всего, не
будет. Самопознание? Ладно, пусть «само», хоть это и мазохизм. Является ли
умение ждать способом устремленности? Быть готовым неизвестно к чему, чтобы
ждать неизвестно чего. А?! Хороший ждет,
потому что он верит в то, что он хороший, что это заметят, оценят, выберут,
наконец. Не ты выберешь, а тебя, как проститутку на Пигаль. Что ж, пассивная
активность — это тоже потенциал, это «русская пружина», которая очень сильна.
Но не стоит надеяться на авось: никто не нажмет на спусковой механизм просто
так. Сам «выстрелишься»? Ха-ха! Куда? В
урну для бумаг? Искусство живет ценителем. Искусство музыки, театра или
изображения доступно и для зеваки. Слово для зеваки недоступно. Обладатель и
ремесленник языка может рассчитывать только на внутреннее зрелище слушателя,
читателя, на адекватное умение и силу его воображения. Зевака исключен в
принципе, а, значит, исключается и заработок. На небесах денег нет. Ты
находишься на чужом поле, и твоя сила здесь — бессилие: головастик в щучьем
омуте! щука в луже с головастиками! Такое вот кокетство, разговор с собой на «мы»,
расщепленное одиночество, будущий взрыв. Так уж и «взрыв»? А что?! Зреющий
взрыв независим от внешнего запроса — он может созреть изнутри, качественно.
Это разговор о катастрофе, о русской катастрофе внутри русского человека. Много
ли можно показать словом там, где его не слышат? Русское слово — привидение в
замке мировой литературы: оно является с приходом мрака, оно стонет и шатается.
Творцов много, а ценителя нет, это большой дефицит, редкость. Глаголящих —
тьмы! Нужен Спаситель, тот, кто избавит от бремени творчества, бремени мысли.
Спаситель должен вмещать бесконечно, как очистные сооружения планеты. Может,
это Интернет? Бог оцифрован. Встречи, письма, изображения летят по проводам,
друзья зачислены в «адресную базу», и ты зачислен… Письма между людьми
превращаются в экспресс-напоминания. Без сердечной нужды электронная «дружба»
не знает ответственности, легко возникает и так же легко готова иссякнуть.
Крыть нечем. Правда — это печальный наш опыт. Главный ценитель — семья. Им
бегать-прыгать хочется, жене с дочкой мороженое кушать, папаню, дурачка,
обнимать… Не рви сердце, гад! Зачем ты свою смерть «любовницей» называешь,
зачем ты для нее семенами слов насорил? Любовница предаст, а жена спасет.
Катись, колесико дней и ночей, катись,
дорогое! Завтра утром надену костюм и — на поезд. Лето! Все едут на Юг. Княгиня
прослушала присланную ей по почте кассету — единственная, кто внятен, потому
что внимающ. Слушатель сегодня — это и есть покровитель. Голова твоя «бродит»,
как вино; в России бродяга есть символ свободы, маячит над ним и романтика
каторги, и чаяния света. Знаете, как бродит вино? В углекислой среде спирт
получается, а в кислородной — уксус. Виноделы знают, бочки специально
запечатывают… Ах, Россия, бездонная бочка! Но не добродила — опять распечатали
до срока… Теперь даже то, что крепостью было, в уксус превратится. Есть повод
отчаянно каркать: ценитель не пробует уксус.
Есть очень светлые люди. Но свет от
них, как от звезд, почему-то не идет сам свозь пространство и время. Надо,
чтобы люди сами к нему пришли. Светочей свет неподвижен.
Хочется писать о своей Руси с
гордостью и любовью, с нежностью и теплом, прикладывать тепло своей жизни к ее
теплу, отдавать себя, зная, что примет все, как мама, не забудет, сохранит и не
потеряет. Почему же не получается? Горечь и желчь подступают вперед, горечь и
желчь. Стоит ли их смаковать? На любовь отвечают любовью, большая любовь
обнимает меньшую. Я не бог, и могу любить только то, что любит меня. В России
все, что больше меня, — издевательство, все, что меньше меня — препостыдная
жалкость. Государство меня ненавидит, история опошлена, вера растоптана. Что
тут любить? Родная земля! — вот самое простое и надежне родство на Руси. Через
землю, через комочек глины. Как у червяков. Земелька в платочке — языческий
пафос, поэзия нищеты. Неужто нет ничего выше? Есть: хлеб да соль. И вроде бы
еще выше где-то есть небо… А вот между «хлебом-солью» и «небом» — пусто.
Дракон драконят порождает. Злая моя
мачеха все пожгла, ни единой мамкиной улыбки на фотографиях не оставила,
отцовские ордена отдала своему внуку на поругание. Отрезали мне память: и при
помощи советских учебников, и по живому. Все чужие, всему чужие. Родной здесь
только земля может сделаться, да и то — напоследок. На Руси со смертушкой
советоваться принято: не обманет, не подведет, не забудет.
Из туристической палатки в любой
ливень выхожу запросто, а из каменной клетки — не могу. Уже больше суток сижу у
Бена в заточении. Клетка все изменила. Наверное, уеду досрочно. Я устал в
России. Я еще больше устал в Париже. Всюду безработица. Меня поймет только
безработный. Безработица русской души! Петлю не обманешь, дергающихся она
затягивает с особым удовольствием. Вот приеду, обниму свою Родину и буду сопеть
ей носом в грудь. Счастье!
Родина мне как-то сказала, что кошка
привыкает к дому, а собака к хозяину. Я понял, почему так плохо: здесь меня
окружают русские кошки, ставшие французскими собаками.
Клетка все изменила: я хочу быть
туристом!
Русские зеки, попав на волю, часто не
могут к ней приспособиться и сознательно стремятся обратно за колючую
проволоку, не потому, что там дом, а потому, что в нечеловеческих условиях зеки
между собою — люди, есть понятия и кодекс, пусть воровской, но чести: слово
имеет силу.
Мой парижский сон превращается в
кошмар. Я задыхаюсь от постороннего смеха, как карикатура, под которой
написано: «Без слов!»
Будильник звонит в 6.00. Просыпаюсь,
бегу, успев глотнуть чай «Султан», пачка которого стоит у Бена среди порошков
для чистки посуды. Совершенная разбужена моим звонком по телефону. Поезд в
Перпиньян отправляется в 8.20. Начинается (как сказали бы инженеры
видеомонтажа) «ускоренка».
— Ты должен выглядеть хорошо.
Не хочется надевать костюм, потому что
в скафандре под солнцем жить тяжело.
— Надо.
Это слово русские понимают как приказ
повиноваться беспрекословно.
— Без галстука можно?
— Ну-ка… Ладно, можно.
Тащу с собой целый баул аппаратуры, в
том числе и диктофон-кирпич. Мы опаздываем, подмышки начинают потеть, Совершенная несется впереди
меня, скачет через несколько ступеней на лестницах метро, бежит по эскалатору.
Успеваю заметить «странное метро», одну из линий, похожую на оформление в
фантастическом фильме: стеклянные туннели, простор, зимние сады под землей,
поезд, прозрачный, как аквариум и передвигающийся без машинистов, полностью на
автоматике. Французы этой чудо-линией гордятся: надрали американцев!
Поезд дальнего следования двухэтажный,
весь с иголочки: полная звукоизоляция, чистые большие окна, подсветка лестниц,
мягкие самолетные кресла. 980 километров за пять часов! Пейзаж за окном
уносится прочь с авиаскоростью. В вагоне тихо и плавно, почти не качает, в
туннелях поршень состава создает на скорости перепады давления, слегка
закладывает уши, кондиционеры следят за температурным комфортом. Совершенная
непрерывно, направо и налево знакомится.
— Посмотри, этот парень полицейский,
ты видишь перед собой настоящего жандарма, он недавно спас бабушку от вора, он
очень гордится собой. Сиди! Сейчас мы пойдем с ним в бар.
Характер растительности за окном
меняется буквально ежечасно. В вагоне приятная прохлада, напротив меня сидит
очень симпатичный негр, работяга, здоровяк, мужик-самец, шарм в чистом виде!
Вернулась Совершенная. Уже с другим.
— Этот мальчик живет в Париже всего
год, он компьютерщик. Правда, хороший? Посиди, пожалуйста. Сейчас мы сходим с
ним в бар.
Бар — дело молодое. Мне принесли кусок
хлеба и кофе, умял, поглядывая на проносящийся за окнами камыш нечеловеческого
размера. Ба! Да это не камыш — бамбук! Я же рыболовных удилищ в виде зарослей,
да еще и с листьями, не видывал никогда.
В Перпиньяне на вокзале нас встретил
невысокого роста пожилой человек, в руках он держал бумагу с именем
Совершенной. Жорж, экс-атташе, муж Княгини, прикативший за гостями на большом
автомобиле.
На улице плюс сорок, кондиционер в
машине поставлен на плюс двадцать девять, окна плотно закрыты.
— Вам не холодно?
— Не-е-ет!
Жорж очень милый. Для гостя с
видеокамерой в руках он готов делать по дороге дополнительные петли,
притормаживать, останавливаться в самых знаменитых местах, неутомимо пояснять
смысл многовековых слоев жизни вокруг.
— Средневековому замку вон на той горе
около тысячи лет. Наши места очень любили и любят художники. Часто приезжал
сюда на отдых Дали. А это Чертов мост! А эта гора месяц назад обрушилась на
дорогу! А это наша главная улица. Вот мы и приехали.
Местечко расположено от Перпиньяна в
сорока пяти километрах — огромная зеленая котловина среди благоухающих зеленью
гор, вдали, у горизонта есть несколько снеговых вершин. Время здесь такое же
медленное, как во всякой иной деревне.
Жорж проработал в СССР в должности
атташе с 1975-го года по 1998-й.
— Я очень много покупал тогда картин у
неизвестных художников. Сейчас они стали знаменитыми на весь мир.
— Картины?!
— Художники из России.
И он выпустил на белый свет целую
обойму фамилий, которую «весь мир» в моем лице почти не ведал.
Жорж сам открывает ворота, загоняет
машину внутрь, и вот — мы на территории частного владения. Вокруг ухоженный
сад, цветущие растения, ель, еще несколько крупных деревьев, тропинки-змейки с
желтой каменной крошкой под ногами, а вдоль тропинок, повторяя их прихотливые
формы, течет холодный и прозрачный горный ручеек, журчит в тени дерев, и даже
разливается в миниатюрный пруд с разноцветными рыбками. Рай! Сквозь ветви рая
проглядывают вдали окна дома. Дом двухэтажный, большой, стены внутри дома все
заняты картинами и антиквариатом. Перед домом по-летнему, в стиле чеховской
эпохи накрыт для гостей и хозяев стол. Княгиня встречает. Чмок-чмок! Как доехали?
Чмок-чмок! Спасибо за подарки. Осваивайтесь, пожалуйста. Сейчас будет обед.
Обед — это не бар, обед дело
серьезное: салат, вода, вино, сок, горячее, сыры, вода, вино, десерт, мороженое
с ягодками из собственного сада; далее — смена места: шезлонги, кофе, беседа.
Все обошлось хорошо: ел ножом и вилкой, не обляпался ни разу.
— Что ж вы в костюме, в такую-то жару?
— по матерински жалеет меня Княгиня.
— Хотелось быть красивым.
— О!
В глазах у Совершенной сверкнуло, она
довольна моей начальной выучкой.
Княгиня увлекается буддизмом, она
пришла к нему после разочарования в заплесневелом и слащаво-фальшивом русском
христианстве. Ездит на Урал в качестве духовного волонтера. Сначала ее
встречали в России с помпой, но по мере того, как официальное православие
начало срастаться с коррумпированным полубандитским государством, Княгиня
сделалась нежелательна «со своими глупостями»; идеология России вновь
возвращается в свой каменный век, перелетные духовные птицы ее бесят и
раздражают.
Хозяйка неожиданно задала вопрос.
— Вы тоже не умеете общаться с
чиновниками?
Пришло время жаловаться. Я с
наслаждением и жаром рассказал о своем опыте первого посещения налоговых
органов, когда меня аж три дня после этого полоскало, и я лежал пластом, болея
без диагноза, как от сглаза. Что это у меня уже третий по счету загранпаспорт,
но первая зарубежная поездка: доходил до чиновничьего барьера и всегда
отступал… Людоедство, русский вампиризм и человеконенавистничество должны, мне
казалось, отвращать от себя, как картины смердящего разложения. А люди вовсю
сновали по инспекциям, конторам и очередям. А люди ездили. А я не мог.
— Я вас сейчас научу. Надо молиться за
тех, кто вас ненавидит. Результат будет сразу же! Это очень хороший способ
жить, он никогда не подводит и никому плохо не делает. Попробуйте! Можно брать
слова из разных религий, все не зря. Но лучшая молитва — это молитва Иисуса, у
Христа получилась жемчужина, действует превосходно! Обязательно попробуйте —
человек на земле должен верить!
Осталось спросить лишь о том, о чем
все спрашивают.
— Ваша фамилия на Руси очень громкая.
Большая история накопилась: история рода плюс история страны…
— О! Пойдемте ко мне в кабинет, я вам
книгу воспоминаний моей сестры покажу.
С чернобелых фотографий на меня
смотрят спокойные и достойные лица русского дворянства. Здравствуйте, земляки!
— Вот очень интересный снимок. Это
тоже по нашей линии, двоюродная сестра царя Николая II, а еще раньше, моя
пра-пра-прабабушка стала мамой Льва Толстого.
День летит в страшном темпе,
«ускоренка» плохо приспособлена для всего медленного: звука, пауз, тишины…
Картинки, только картинки!
Вот уже хозяйка закрывает зеленые
железные ворота, Жорж, послушный и обходительный, опять за рулем. Я прячу
видеокамеру в сумку. Возвращаемся с перебором реального в желудках и с
перебором ирреального в головах. Говорим мало. Чмок-чмок!
Жизнь — это монтаж «встык», без
плавного перехода; перемещаемся из машины в машину, новую спутницу зовут Кора,
она скульптор из Голландии, у нее четверо взрослых дочерей и своя галерея в
Перпиньяне.
— Он никогда моря не видел.
Совершенная тычет в меня пальцем, и
Кора давит на газ. До средиземноморского побережья пятьдесят километров:
интересно! благодарен! любопытно и хорошо! Хотя, все именно так. Море спокойное
и красивое, народу на пляже еще очень мало, песок обыкновенный, как везде.
Песок обладает потрясающей философской наглядностью: песчинка живет дольше
скалы.
Меня заставляют снять чертов костюм и
облачиться в чьи-то шорты (взяли на всякий случай). Костюм и рубашка лежат на
песке…
— Иди купайся!
Плохая идея, я к ней не готов. Но с
Совершенной не спорят. Она снимает с себя широкий ярко-красный шарф, обматывает
его вокруг моей талии и опят командует.
— Снимай! Трусы сохранишь сухими, а
поплаваешь в шортах.
Ё вашу мать! Плыву в шортах, вода
теплая и соленая, как физраствор. Глубины подо мной сантиметров семьдесят, до
настоящей пучины здесь не добраться.
Обратно уезжаем в спальном вагоне,
отправление в 22.24., поезд идет до Парижа десять часов. Франция спешит на
дорогах только днем, ночь — время торможения.
— Купе такие же, как у нас?
Совершенная держит мрачную паузу.
— Хуже.
— Чем хуже? Уже?
— Намного хуже.
Подают состав. Один вагон первого
класса — на четыре человека в одном купе, с полками в два яруса.
— У нас первый класс?
— Ага, разбежался. Щас увидишь.
Купе на шестерых, трехъярусные нары до
потолка, сесть невозожно, пассажиры вынуждены только лежать. А что? Просил
спальное место — получил спальное. Не нравится, проси в следующий раз сидячее.
Матрасы не предусмотрены, длина куцого одеялка — метр двадцать, правда, есть
валик-подушечка и простыня-мешок.
— Скотовоз!
— Что?
— Чего так жадничают конструкторы? Для
себя же стараются.
— Умеют экономить.
Утром мы вышли с Совершенной на
парижский перрон, как двое из борделя: опухшие, мятые, злые. Всё! Времени
прошло — от вокзала до вокзала — ровно двадцать четыре часа. Дома пьем кофе.
— Ну как, доволен?
— Век не забуду.
— Что не забудешь?
— Сон. Быстрый-быстрый-быстрый!
— Точно! Мы проспали сутки, от того и
опухли.
Совершенная умылась, съела апельсин и
прослушала автоответчик: жизнь прекрасна! — можно шутить над прошлым.
Да, я задумал побег. Эта мысль
наполняет меня силой. Жорж, кстати, тоже носит Россию в себе. Вспомнились
вчерашние разговоры.
— Я могу отвечать за свои слова. Я
больше двадцати лет провел в России и уверен, что именно эта страна спасет
Европу от вырождения. Сейчас это уже очевидно. Никто, кроме России, не обладает
таким потенциалом, я говорю, прежде всего, о людях. Я это знал всегда.
Княгиня ему вторила по-своему.
— Многие учения указывают на Россию,
как на источник возрождения.
Ах, милые, милые люди! Вы намеки
понимаете? Тогда скажу. Знаете, самая крупная и самая вкусная земляника в
России растет на кладбищах. Приезжайте, покажу, полакомимся.
Домой! Домой! Пора искать хоть
какие-нибудь заказы, думать о семье и проклятых деньгах, бояться темных улиц и
задерживать дыхание в загаженном лифте. Какой простор для возрождения! Плебеям
есть куда и есть во что возрождаться. Ха-ха! А что ждет культуру? Ей ведь
«возрождаться» некуда, и поэтому колесо фортуны клонит ее к вырождению.
Расторопная Европа рассчитала все наперед, держись теперь, русские папуасы!
Домой! Домой! В столицу будущей
Европы, в самое сердце будущего гиганта, лежащего между Атлантикой и Тихим! Это
крещендо темы, пророчество на языке безумия. Во всех программах по воспитанию
народа появилось новое слово: толерантность. Не впервой приниматься за старое с
новыми силами.
Если ты перестаешь напоминать о себе,
то о тебе и не помнят; французы ничего не «хранят в себе».
— Надо быть очень большим человеком,
чтобы это делать. Большим в себе. О-очень большим! Потому они и выбирают
русских для брака.
— Ядовито.
— Без этого не уследишь… Можно не заметить,
как кто-нибудь к тебе «засунется». А зачем?
Совершенная не сомневается: основной
вид памяти — напоминание.
Вспомнил вчерашний рассказ Княгини о
ее дружбе с русским священником Александром. Это ее духовный отец. Есть
несколько бережно хранимых фотографий, где друзья рядышком. Княгиня очень
дорожит этими изображениями. Глаза Александра темны и спокойны, как вход во
вселенную. Его убили. Накануне убийства он рассказывал ей о том, что «опять
вызывали в КГБ, беседовали».
— Мне никогда не снилось чего-то
такого… А тут вдруг отец мой является и говорит, что его убили. А у меня голову
вдруг больно стало. Папа, говорю ему во сне, ты ведь уже умер, как тебя могли
убить?
Наутро в Париже раздался звонок из
Москвы: «Несчастье! Сегодня ночью Алика убили. Ударили по голове».
— Вот ведь как получилось, сон говорил
мне языком притчи о моем духовном отце. Сны знают о нас больше, чем мы сами о
себе.
Сегодня ночью Жизнь проснулась в
слезах и удушье.
— Я так испугалась вдруг за вас:
уехали! далеко ведь! И мне приснилось, что Совершенная задумала самоубийство.
— Жизнь, все хорошо, просто мы ехали
ночью в спальном вагоне, в скотовозе, кондиционер заклинило, и мы мерзли, как в
морге.
— Ах ты! Теперь понятно. Пельмени
будешь?
— Откуда пельмешки?
— С Хозяйкой в ресторане помирилась,
до двух ночи разговаривали. У нее нервы сдали: десять лет уже во Франции, а
языка не знает, себя развивать нет возможности — каждый день у плиты в
ресторане по двенадцать часов. Каждый день! Рехнуться можно. Ха-ха! Вот она и
рехнулась. Даже поплакала ночью.
Вот и ладушки. Отпрыск-оболтус
экзамены не сдал и, скорее всего, не сдаст.
Напоминать о себе во Франции приятно
по-французски. Альтернативного языка нет, если это только не язык секса.
Я смотрю из окна на бетонный дворик.
Там стоит большая пластиковая кадушка с землей. Из земли растет зеленый бамбук.
Сверху его стригут, а снизу корням никогда не уйти дальше кадушки. Это не
родная земля.
Надо до последней капли «выдавливать
из себя эмигранта». Только у туриста есть надежный тыл: время и место здесь,
время и место там. Турист волен менять одно на другое по своему усмотрению.
Турист за границей — человек! И самое главное: он сам себя человеком чувствует.
Это я после беновской холостяцкой
тюрьмы-берлоги укрепился в перевороте мнений. Дома тоска — родная, она
протяжные песни на свадьбах поет, она веревочкой русской жизни вьется, петляет,
да без петель: кривая вывозит! Тоска на чужбине — под чужую бренчалку; может, и
до свадебки доживешь, да прямая тропинка русской лесной душе — нож. Что надо,
что не надо, — все позарез! Оттого и тропинки наши кривые, чтобы на крайностях
наклоняться удобнее было — как на гонках, как на вираже. Русское — большое: и
проклятия выдержит, и похвалу. Похвалы, правда, русским бояться надо, она ведь
только глупцов окрыляет, а дураков слепыми делает.
Не зря в Париж съездил. Не зря. На
Родину насмотрелся, как со смотровой площадки: красивая она издалека! И говорит
она на том же языке, что и я. Хоть бы позвонила, что ли.
Открываю наугад сочинения Княгини:
мысли, самодельный альбом с текстом, который я везу возможному русскому
издателю. Этические наставления: «Мы всегда будем чувствовать в себе пустоту,
которую не в состоянии заполнить, — и будем чувствовать ее до тех пор, пока не
разберемся, откуда она.» С точки зрения рационалистов духовные люди слишком уж
однообразны в своем возвышенном состоянии. Почти занудстве. Так им кажется.
Потому что они очень много говорят, не зная. А видящий знает, но привык
говорить скупо и сдержанно, только формулы. Единственная общая территория —
жизнь между теми и теми: поступок. Во всех странах эта невидимая зона
превращения человека в человека очень мала. Поэтому человек, с одной
стороны, над ней потешается, а с другой
— оплакивает.
Я сказал Совершенной:
— Все, что перестает развиваться,
начинает стремиться к размножению.
— Ты это где взял? О! Это нужно
запомнить. Жизнь ведь хотела второго родить…
— Это закон природы.
— Кто сказал?
— Ученый, мой друг, он занимается
биопроцессами.
— Хороший закон…
По блеску в глазах я догадался, что
только что вручил Совершенной секретное оружие.
Я точно знаю, что Париж мне сниться не
будет. Так же, как и я ему. Русские картины мне здесь тоже не мстятся. Так же,
как и я им. А вот Родина сказала по телефону, что видела меня
«рядышком-рядышком», и это не сон.
Совершенная пришла в большой усталости
— после ночи на мобильных французских железнодорожных нарах, после дневных
концертов.
— Звонили?
— Нет.
— Что еще?
Хочу развеять усталость, заигрываю.
— Вы мне девушку обещали.
— Какую девушку? Когда?
— Русскую. Чтобы она меня в Лувр
сводила.
Лицо делается каменным, Совершенная
поднимает телефонную трубку и начинает набирать номер. Отвечают. Лицо вмиг
делается лучезарным, как на рождественской открытке, голос медовеньким:
— Тю-тю-тю! Тю-тю-тюлюшки!
Еле остановил. Смотрим друг другу в
глаза. Это поединок.
— Зачем же так сразу?
— Слова для меня имеют действие. Ты
спросил, я выполняю.
У Совершенной близка к поверхности
«точка кипения», она устала, устала притворяться довольной.
— Что еще?
— Хочу в собор зайти, но не знаю в
какой. Под куполом постоять.
— Это не ко мне.
Она думает, что я не понимаю, не
улавливаю ее раздражения. Она думает, что я, как те парни из вагона, не понимающие
русского: «Это живой жандарм. Круглый дурак, образец французской тупости».
Можно говорить все, что угодно, он не понимает, он следит лишь за улыбкой на
лице. Она не понимает, что я читаю ее усталость легко, как азбуку. Пора
прощаться.
— Пока, я пошел ночевать к Бену.
— Ты же ненавидишь его дом.
— Пока.
Совершенная вздрагивает, показывая на
стену с «вечными» электрическими часами. Часы вдруг остановились.
Между прочим, у Бена совсем неплохо.
Он пока еще молодой холостяк и не ценит свое главное сокровище — хаос. Я
накупил сладкого, заварил турецкий чай, наелся, как Тузик, и не хочу ни лаять,
ни вылезать из конуры. Хорошо бы сейчас проливному дождичку до утра зарядить!
Сочинения Княгини — папка бумаг из
восьмидесяти двух страниц. Этика: познание, любовь, пища, молитва… Ничего
нового, конечно, и быть не может. Но после прочтения я улыбнулся так же легко,
как если бы держал пост и молился. Особые слова, как огонь, о нем нельзя
рассказать через книгу, передать его, замуровав послание в знаки… Огонь духа
такой же живой, как и физический, он поддерживается и передается только в
череде «поленьев», только прямым контактом учителя и ученика. Никто из людей не
знает: в какой момент он учитель, а в какой ученик? Поэтому мы не сможем
обойтись друг без друга в своем самопознавательном «горении». Дать себя для
поддержания этического пламени — это действие, которое полностью подчиняет себе
игры разума.
Умникам Княгиня не нравится. Они
хотят, чтобы она «доказала» каким-нибудь новым экстравагантным способом свое
право на возвышенные слова. Этого нет.
Жизнь хохочет.
— Мы с Совершенной в Париже новую
пословицу придумали.
— Какую?
— Друг, товарищ и враг! Правда,
смешно? Ой, не могу: товарищ и враг!
Этика помогает любить врагов. Потому
что они — это ты в зеркале. Так Княгиня написала.
Улыбаюсь. Уже мысленно репетирую обмен
обратного билета в авиакассах, вспоминаю нужные английские слова. Совершенная,
наверное, будет думать, что обиделся вдруг, что «отомстил» сам себе: мол,
дурачком был, дурачком и помрешь. Ладно, поглядим, русских цыплят по-осени
считают, а осень — закат Европы — не за горами. Мне об этом академик Жорж
сообщил. Прости, Совершенная! Я действую так, как хочу; у тебя твое «хочу» в
тебе самой сидит, а мое где-то там… Точку в дневнике поставлю и домой уеду. И
не надо палить «неблагодарного» зрачками, как напалмом. Точка-то, вот она,
совсем уже близко, воткну ее в бумагу в самом финале, как булавку, как смерть в
куклу Вуду.
Господи, как хорошо жить! Пусть будут
счастливы все несчастные. Если нет у них счастья быть сытыми, пусть ликуют от
счастья быть нищими.
В общем, в Лувр я не пойду. А под
куполом постоял бы: пусть на меня небушко посмотрит через свою французскую
«увеличилку».
Липы в пригородах Парижа цветут —
одуреть от запаха! — точно, липа, я ствол подробно исследовал: можно кору
вымачивать, чтобы потом лыко драть, на мочало или на лапти сгодится… Сами собой
эти мысли в голове появились. Как моль.
Да, Бог строит свои «телескопы
наоборот» на Земле, чтобы разглядывать человека крупным планом, духовной
инженерией заниматься. А человек-то сквозь «телескоп наоборот» на Бога смотрит
и видит иначе: Бог-то маленький! Можно и поговорить на равных. Или помолчать.
Что хочешь вытворяй: каков ты сам, таков и твой Бог.
Верхнюю панельку в автомобильных
магнитолах водители не оставляют, так же, как в России, снимают, уходя, и
держат при себе.
— Неужели и здесь воруют?!
Жизнь взвилась.
— Трижды у меня взламывали машину,
стекла побили, замок расковыряли. Так противно! Как будто твою вещь в дерьмо окунули,
а тебе с ней еще жить и жить…, понимаешь?
Понимаю. У нас этих «окунаний» пруд
пруди: и частники промышляют, и государствушко «макать» народ не ленится.
Договариваюсь на завтрашний день.
— Жизнь, я завтра приду к тебе.
— Ух ты! Приходи.
— Я у Бена, мне одиноко.
— Правильно. Все через это проходят.
Девочки думают, что я готовлюсь к
эмиграции; разворот будет резкий, через лобовое столкновение. Винсентский лес
находится рядом с домом Жизни, пойду шататься меж дерев. Ишь! Эмигрантам
одиноко, потому что Франция им не по размеру — они слишком маленькие,
инородные, а страна о-го-го! В моем пижонском случае страдания те же, да
причина иная: маловата мне Франция! тесно и жмет везде! русские этого не любят!
Я свою русскость на французское притворство не променяю — не тот замес. Хорошо
здесь, но не интересно, не раздольно для русского размаха. Все вокруг, как в
сверхнасыщенном соляном растворе: сколько хочешь теперь в него соль жизни
подсыпай, все равно ни крупинки больше не растворится. Значит, разжижить надо
раствор для дальнейшего количественного растворения, вот они все,
«концентрированные», на Россию и заглядываются.
Месяц назад я купил бутылку молока,
открыл, половину выпил, остальное оставил, забыл. Сегодня вспомнил — открыл
остатки, глотнул: молоко свежее! Без нечистой силы наверняка не обошлось.
Опять жалуюсь Совершенной.
— Меня никто не читает.
— Жена Барона читала.
— Я не об этом. Не интересно?
— Термин неприменим. Тут другое. Я
была в Тибете, там туземцы, когда идут в горы, готовят себе специальную еду,
кисю-мисю, куда намешивают всего сверхкалорийного…
— Это хорошо?
— Да, для туземцев. Надо быть туземцем
и ходить по трудным горам, чтобы радоваться этой кисе-мисе.
— Аллегория?
— Тебя нельзя читать, тебя можно
только «откусывать», этого вполне достаточно. И для этого должны сложиться
подходящие обстоятельства.
Как ни крути, мимо Гималаев не
проскочишь. Крыша мира, все художники к этой мансарде стремятся.
Винсентский лес — большой кусок
зеленого на каменно-коричневой карте Парижа, он перерезан автострадами, но если
сделать двадцать шагов в сторону от асфальта, то найдется и крапива, и заросли
ежевики, и гнилушки, и сучки под ногами. Народ усердно бегает по тропинкам,
туда-сюда наяривают велосипедисты, тишины нет, гудение огромной механической
жизни всепроникающе. Похоже, я забрался на самое высокое место этого зеленого
угла. Просто все время шел в гору и искал скамеечку, чтобы присесть. А в голове
слова, слова, слова: как светящаяся живица в сосновом стволе.
Русский должен строить русскую жизнь,
а француз — французскую. Эту данность нельзя преодолеть ни перемещением, ни
перерождением.
Традиционных молитв я не знаю.
Жизнь моя милая, жизнь моя ясная! Мы
одни с тобой в мире огромном. Я смотрю на тебя, как дитя, как жених и как муж: ты
и мама моя, и невеста, и зрелость последняя. От любви до любви все дороги твои.
Твоя прихоть есть вера моя. И когда я плутаю, ты манишь звездой путеводной.
Тьма во мне повторяет телесную жажду. Ослепление мыслью, гимн бесстрашию духа —
Жизнь! Мы с тобою одни. Это значит, я с каждым рожденным в родстве: ведь и он
обладает тобою. В едином кольце бытия есть и взлет, и упадок, гордыня и мера,
бездомность и дом. Пусть у всех одиночество будет полным, как мир.
Обнимаю, как ветер, любимое племя;
охрани его, Жизнь, от себя самого!
Цель беспокойства — дорога к покою.
Уничтожение хаоса является высшим
достижением смерти.
Любовь к своему врагу не означает
отсутствия врага. Любить свою ненависть к врагу — хуже врага!
Человек — дом. Счастье не может в него
войти пока дом не покинет ожидание.
Внешней работы не было, внутренняя
работа завершена: двигаться надо!
Потеряв себя, ты будешь искать
другого. Потеряв в себе, не найдешь и в другом.
Эй! Липы вокруг цветут! Медом пахнет.
И пчелы на цветах появились, и шмели! Жизнь продолжается, потому что она
независима от печали.
Сообщил о своем решении отчалить
досрочно: «Тоска на родине лучше тоски по ней».
Носков я износил всего две пары.
Придется запастись сувенирами.
Возвращение — это сувениры. Сам я, в голом виде, не нужен никому, кроме Родины.
Какой только гадости я здесь не
понабрался. Например: если тебя ранят в беседе, то надо делать вид, что ничего
не произошло, чтобы другой продолжал чувствовать себя уверенно и комфортно.
Чем больше у тебя возможностей, тем
невозможнее большее.
В парке встретились с особенным
звукорежиссером, он соглашается работать лишь в фильмах «с содержанием».
Однажды в Африке он провел месяц среди пигмеев — записывал фонограмму жизни одного
из охотников. Каждый день двое мужчин уходили в лес, не понимая в языке другого
ни единого слова; один весь день молчал, потому что охотился, другой молчал,
так как держал в руках микрофон; через месяц между охотником и звукорежиссером
возникло чувство сильнейшей дружбы — их объединило молчание.
Говорю свою формулу.
— Звук позоляет «видеть» и с закрытыми
глазами. Я тоже люблю записывать.
— Да, звуком можно «нарисовать» суть.
Этот обаятельный человек побывал
всюду.
— О! Однажды я в Тибете звук записывал…
Парижане бегают, очень много бегающих
людей. Кого же они мне напоминают? Вспомнил! Ходоков в коридорах «психушек»,
где народ от подъема до отбоя ходит туда-сюда-туда-сюда-туда… Не хватает
движения, гипокинез, люди сопротивляются, как могут. Чтобы с ума не сойти.
Мегаполис — пространство тесное, сбрендить можно запросто.
— Когда человеку тесно, его можно
легко обмануть. В силки угодишь.
Жизнь сделалась серьезная.
— Парень у меня был… Помог мне во
многом. Потом уехал. И вдруг я письмо получаю: прощай! люблю! завтра со скалы
брошусь! Ему так его бог повелел. И не стало человека. А я теперь его помощь
внутри своей жизни ношу. Ничего не понимаю: зачем?!
— Он к секте принадлежал?
— Да. Сделали принадлежным. Они это
хорошо умеют, те, кто бога поминают часто.
Владея собой, ты владеешь другим.
Билет я поменял, найдя агенство
«Аэрофлота» на Елисейских Полях. Общались на английском с милой японкой за
столиком офиса. Дополнительно содрали 65 евро.
Буратино сводили в китайский
ресторанчик.
— Палочками есть обучен?
— Нет.
Ел руками.
— Я бы хотел, чтобы необдуманной
русской эмиграции стало меньше. Наверное, я и пишу-то для этого.
— Две страны тебе скажут большое
спасибо. Гран мерси!
Последняя неделя ожидания превращается
в один непрерывный период: пора!
Артист, как бабочка: прекрасен, и
живет в настоящем. Писатель — червяк: он все «пропускает через себя», и эта
продукция грядущему нужна больше, чем нынешнему. Бабочки его утешают: «Не
огорчайся! Мы ведь тоже были когда-то гусеничками».

Совершенная принесла три рубашки
Француза и штаны. Для моего выхода на пресс-конференцию.
— Меряй!
Рубашки впору, только погладить надо.
— Теперь штаны.
— Не бу-уду!
Жест мгновенный — штаны полетели в
урну, на выброс: итальянское сукно! почти новые!
— Ой!
Совершенная продолжает общение, как ни
в чем не бывало.
— Француз из Якутии звонил. Передает
привет. И еще скажи, почему ты улетаешь? Ты ведь так и не узнал Францию.
— Взаимно.
Культуру не зря сравнивают с глубиной.
Это главный параметр. Даже в пределах одной страны «глубина» меняется от города
к городу и от десятилетия к десятилетию. В России мелко, Россия слишком широка
для повсеместной глубины, ее спасают отдельные личные бездны — подвижники,
расковырявшие неведомое в самих себе и за счет себя, благородно написавшие над
входом в открытия имя своей страны.
Франция глубока в целом, и в ее недрах
водятся великаны. Франция рождает тех, кто рождает моду. Это могут делать
только «глубокие в глубине». Россия не имеет такой возможности, в принципе. Она
генерирует героев, которые делают свои подвиги вопреки окружающей обстановке, а
не благодаря ей. Русский, попадая во Францию, «кессонит» от избыточной
исторической и культурной густоты вокруг, и, напротив, француз в России
испытывает недостаточность — его разрывает изнутри наша пустота. Можно приучить
себя и к тому, и к другому. Есть прецеденты.
Французское национальное радио — это
огромное многоэтажное здание в стеклянной облицовке и с круговой внешней стеной
без углов. Запись происходит в концертном зале, где все сделано так, что
захочешь скрипнуть, да нечем: мягкие покрытия, сверхмягкие и сверхплавные
стулья. Уют в музыкальном театре начинается с уха.
Четырехлетний ребенок нечаянно
просыпал на пол зрительного зала пакет хрустящих чипсов. Никто даже не пикнул:
дети святы!
Аник собирается ехать дальше Питера:
«Хочу Урал. Но деревня — нет. Не люблю деревня. Париж люблю!» Интересный
зигзаг.
Концерт на радио прошел замечательно.
Правда, на вопрос ведущей: «Откуда возникает русская задушевность?» — Жизнь на
всю страну стала вдруг разглагольствовать в прямом эфире о том, что в России
женятся только один раз и по любви, а во Франции лишь спариваются. Публика
справедливо оскорбилась.
Ночевал в апартаментах Француза — это
берлога путешественника, писателя, журналиста на последнем этаже в доме
постройки 16-го века в богатом квартале Парижа. Комнат много, все завалено
книгами и фетишами, привезенными со всего света. Куда ни глянь, всюду находятся
надписи «Russia» или «Tibet». Перед входом на кухню висит советский плакат:
мужчине за столом протягивают рюмку, а он, глядя перед собой прямо и честно,
отвечает: «Нет!»
Утром посетило блаженство, какое
бывает, когда ты еще спишь, но уже все слышишь. Будто бы я на лесной рыбалке, в
палатке, а со всех сторон чайки кричат, будят. Чайки кричат!!! В огромном
городе они легко находят пропитание, летают над Сеной, закованной в бетон и
камень, а селятся и птенцов выводят — на крышах!
Совершенная нервничает.
— Я чувствую себя виноватой, потому что
не сводила тебя в самые интересные места Парижа.
— Милая, пожалуйста, не чувствуй себя
виноватой, чтобы я себя виноватым не чувствовал.
— Но ты же ничего не видел.
— Зато я многое понял, и мне хорошо.
— Правда?
Париж, как огромный инструмент; путешествуя
по нему, можно извлекать из струн метро, резонаторов улиц и галерей — слова и
ноты. Так делают все. У меня не было этой возможности, и я поступил иначе — дав
Парижу попутешествовать во мне самом. Он был моим смычком, а я — его
вибрирующей пустотой. Это ведь так по-русски!
Есть язык, который на земле понятен
всем: это — деньги. А я его почти не знаю.
Порядок оживляет себя анархией,
анархия отрезвляется порядком.
В компьютере я нашел киплинговское
заклинание победителя себя самого. Очеловеченная идеология колониального
завоевателя.
«Владей собой среди толпы смятенной,
тебя клянущей за смятенье всех, верь сам в себя, наперекор вселенной, и
маловерным отпусти их грех. Пусть час не пробил, жди, не уставая, пусть лгут
жрецы, не снисходи до них, умей прощать, и не кажись, прощая, великодушней и
мудрей других. Умей мечтать, не став рабом мечтанья, и мыслить, мысли не
обожествив, равно встречай успех и поруганья, не забывая, что их голос лжив.
Останься тих, когда твоё же слово калечит плут, чтоб уловлять глупцов, когда
вся жизнь разрушена, и снова ты должен всё воссоздавать с основ. Умей поставить
в радостной надежде на карту всё, что накопил трудом, всё потерять и нищим
стать, как прежде, и никогда не пожалеть о том. Умей принудить сердце, нервы,
тело тебе служить, когда в твоей груди всё пусто, всё сгорело, и только воля
говорит – иди. Останься прост, беседуя с царями, останься честен, говоря с
толпой, будь прям и твёрд с врагами и друзьями, пусть все в свой час считаются
с тобой. Наполни смыслом каждое мгновенье, часов и дней неумолимый бег, тогда
весь мир ты примешь как владенье, тогда, мой сын, ты будешь Человек».
Совершенная пояснила.
— Я читала это стихотворение на разных
языках. Лучше русского перевода нет ни у кого, даже у автора. Русский язык, он
такой, такой…
И мы всласть поговорили о «вечном», то
есть, о русских словах, которые получились по природе своей двоякими: образный
смысл каждое слово несет по-восточному, как иероглиф, а логику выражает
по-европейски. Оттого и сказанное на русском почти всегда двояко, лукаво, с
запасной лазейкой меж недоопределенностей.
Но Джозеф Киплинг прям, как
математика. Совершенную это восхищает. Повелительный русский годится для
выражения реакционных амбиций. В таком проявлении этот поток приказаний
возбуждает инстинкты, а инстинкты — это русское вдохновение, реванш одиночек.
Вежливость, как мне объяснили, может
быть «дополнительной». Во Франции она стоит в повседневной жизни один евро —
это чаевые.
Читаю, читаю то, что подарено здесь,
воспоминания Великого Князя Александра Михайловича. 1823 год. «Европа! Европа!
— это вечное стремление идти в ногу с Европой задержало наше национальное
развитие Бог знает на сколько лет».
Дворняжку можно и воспитать, и обучить
самым превосходным образом — дворняжки очень способные к восприятию. Но им
нельзя дать породу — врожденную науку взаимодействия. Кровь необучаема.
На пахнущий «треугольник» я имел
неосторожность пожаловаться, он бесследно исчез, в комнату роем налетели мухи, чувствующие
свою близкую победу; я из комнаты вылечу раньше.
Культура слушать — достижение
эстетическое, поэтому оно легко становится общим, культура слышать
индивидуальна — она принадлежит умению управлять тишиной в себе.
Исповедь во Франции — искусство.
— Вот тебе выпечка к кофе.
— Поделим?
— Ты что! Я никогда не употребляю
мучное с утра.
Совершенная недавно проснулась. На
часах четыре вечера.
Страна есть Личность. Суперличность.
Есть на земном шаре лидеры, которые всем и всему задают тон. Тональность. Это
контекст мира. Так же, как на бумаге или на сцене, главное сообщают не слова, а
интонация. Можно сказать: «Франция!» — и дальше можно молчать; большинство
людей на планете испытывают после ключевого восклицания одно и то же. Можно
сказать: «Россия!» — молчание будет другим.
Жизнь не важна. И смерть не важна.
Если нет интонации.
Помню, как в четырнадцать лет
наступила старость: будто бы «жизнь во мне» превзошла «меня в жизни». Русская
старость может наступить еще раньше — при неуклюжем патриотическом, религиозном
или дворово-тюремном воспитании. Русская душа тяжела на подъем с детства.
Творческая конференция прошла успешно:
много говорили, много спрашивали. Но не знаю, признают ли французы субъективную
«отсебятину» за разновидность честности? Публика интересовалась: русской
военной доктриной, экономическими симптомами выздоровления промышленности,
политическими интригами и русской православной церковью. Через два с половиной
часа общения дали прочитать одно авторское стихотворение. На этом «встреча с
уральским поэтом» завершилась.
Умные французы очень красивы, их шарм
— в способности интересоваться чужой жизнью искренне и глубоко. Собственно, эта
красота хороша для людей любой страны. Но во французах она угадывается еще и
как изысканная элегантность: понимать принимаемое и принимать непонимаемое.
Улавливаете?
Они спросили:
— Кто сейчас управляет Россией?
Я ответил:
— Страх.
Рассказываю аудитории.
— Однажды мне выдали вместо гонорара
пачки журналов с опубликованным текстом; начало девяностых — время безденежное.
Я собрал тогда на творческий вечер много друзей, несколько сот человек, и
выставил все пачки.
— Продал! Отлично! Все сразу! —
восхитились французы.
— Нет, не продал. Раздал! Просто так.
— А в чем выгода?
— Я избавился от тиража.
Замерли, не понимая. Ждут объяснений.
— Видите ли, взять в этой жизни
сложнее, чем дать…
Заулыбались, как врачи в
диагностическом кабинете, запереглядывались, как если бы я сказал о том, что в
северном полушарии Луна квадратная.
Русских выражение печали на лице
сближает, а французов заботит. Я думал, морщил лоб, а седой музыкант-профессор
места себе от этого не находил: «Он все время на что-то сердится!» Здешняя
интеллигенция, культурные люди ищут в живых встречах подтверждения легенды о
высокой русской душе. Глинка, Чайковский — найтись должно что-то похожее на их
музыку, что-то в этом духе.
Жизнь не так важна, как тишина после
нее. В плохой тишине новая жизнь не родится.
Я гнался за тишиной, и она схватила
меня.
Вера — это то, что человеку помогает
распрямиться, а не опускает его на колени.
Вот и день прошел.
Порода начинается от корня, а не с
места прививки.
Россия напоминает крупную и
легкодоступную дворняжку, на которую охотно «делают садку», кидаются обладатели
родословных.
В захолустном среднерусском городке я
видел человека, который вырастил чудо-дерево, — привил к стволу дикой яблони:
грушу, белый налив, сливу… Действовал, как Петр Первый! Но чудо, которое не
имеет самостоятельного продолжения, — это, скорее, чудовище.
Русское прошлое не только
непредсказуемо, но и бесперспективно. Поэтому и возникает пресловутая «загадка
русской души» — лучшие плоды нашего Древа жизни не стремятся, созрев, упасть
обратно к корням, а лишь с тоскою смотрят в пространство иллюзий, в небесную
твердь. Отчаявшиеся рвут самих себя с материнской ветки и прилепляются
где-нибудь. Многие засыхают. Талантливые и те, кому повезло, повторяют судьбу
Гадкого Утенка.
Россия любит рекорды, чудь, которую
демонстрируют одноразовые чудовища. Настоящее чудо живет в повседневном общении
и воплощается на конвейере.
Пальма первенства растет там, где есть
пальмовый лес.
Около Триумфальной арки огромная
круговая площадь с примыкающими к ней многочисленными улицами. Ни одного
светофора! Движение машин — невообразимая железная каша, а правила в этом месте
Парижа, как при общинно-родовом строе: при любом столкновении — ответственность
пополам. Никто не сталкивается!
Полиция, сколько я в машинах ни находился,
не останавливала ни разу, в документы с гестаповским прищуром не смотрела. А
дороги? Ну, что дороги: пластмассовую турку с горячим кофе ставишь на пластик под лобовое стекло и
едешь, прихлебывая, на спидометре 120-140.
Я чувствую себя лабораторной ретортой,
в которой реакция постижения другой страны прошла не в реальном времени и
реальной судьбе, а во сне. Поэтому материальных результатов нет.
Жизнь — это самое ненастоящее из всего
ненастоящего. Реально только воображение, и любое его овеществление — игра,
мыльный пузырь.
Случайно увидел цитату из Каббалы:
«Камень превращается в дерево, дерево превращается в зверя, зверь превращается
в человека, человек превращается в демона, демон превращается в Бога».
Эволюционная цепь, естественный отбор. Русский превращается во француза.
Русский превращается в немца. Русский превращается в американца. Русскому легко
превращаться: он — камень, и древо, и зверь, и человек, и демон.
Война и мир принадлежат фантазерам;
пожар в голове — пожар в доме. Инквизиция подтвердит: смешение фантазий ведет к
взрыву.
Демоны обожают демонстрации.
Демоны не умеют договариваться,
поэтому уповают на терпение. В России всегда шла война между людьми и демонами;
соотношением сил сторон определялось равновесие между жизнью и смертью.
Мы ВСЕ погибнем, если не будет войны!
Читаю. Великий Князь А.М.: «Я еще не
видел такого человека, который понимал бы русский народ». И еще одна его мысль:
обычные революции происходят снизу и направлены против господствующего строя, а
русская революция произошла сверху и была направлена против своего народа.
Иллюзии должны умирать своей смертью.
Гибель демона означает гибель тех, на кого он опирается. Разочарования
одинаково смертельны на небе и на земле.
Искренность не считается с цензурой.
Размышления о смысле жизни привели
меня к основанию пирамиды: семья, туризм и работа. Все остальное прах и не
служит пользе того молчания, которое останется после моей смерти.
Друзья по «электронке» прислали
депешу: «Здравствуй! Рады сообщить, что сегодня примериваем тельняшки и завтра
уходим на яхте. Уходим на месяц. Так что, ждем тебя, француз проклятый, в любое
время на берегу Волги». Двигаться, двигаться надо! Скоро и я буду — рот в три
зуба до ушей! — радоваться в кругу зубоскалов, не очень умеющих «себя вести»,
но умеющих любить так, как «проклятым французам» и не снилось!
Любовь и самолюбие несовместимы.
Только в неволе душа летает, как ангел.
Париж не располагает к тому, чтобы влюбиться.
Мелковато здесь для наших заоблачных щучьих велений. Совершенная меня объясняет
мне же.
— Ты достиг своего возраста.
— Это случилось много лет назад.
— Ты заболел?
— Ха-ха! Старость — это когда
перестает интересовать зоология, а мудрость — это когда безразлична и сама
старость.
— Тебе здесь никто не понравился?
— Понравились! Очень многие
понравились! Но я не соединяюсь с людьми ни «там», ни «здесь». Понимаешь?
— Бедняжечка!
Да уж. Русский бука пытается доказать:
какой это кайф — не жить. Здешним весельчакам понятна совсем другая «не-жизнь».
Вокруг меня милые логики,
рационализаторы и пропагандисты себя самих. Совершенная — полуисключение, она
вкладывает недожитый ее натурой русский размах в каждого встречного.
Вот и еще один день прошел.
Мия по мне прыгает, как козочка,
привыкла, мы вполне понимаем друг друга.
— Ухо видишь?
— Уи.
— Это великое и могучее русское ухо!
Сегодня исчезнувший отец Мии прислал
по Интернету свою фотографию — осчастливил дом изображением папы. Когда-нибудь
техника дотянется до неисчезающего банка памяти Вселенной, сбудутся
пророчества, мертвые восстанут: можно будет по специальному «сотику»
побеседовать и с пра-прабабушкой, и с Наполеоном, а по спецсвязи — с будущим
сыном.
Россия значительно ниже Вселенной.
Судьба банка ее памяти похожа на судьбу не очень-то удачливой библиотеки: книги
то сжигают и выбрасывают, то заполняют полки новыми. Хозяева у русской памяти
меняются. Внушаемое прошлое спорит с настоящим.
На экране компьютера в доме у Жизни
постоянная заставка — величественная картина: Солнце, восходящее над горами.
— Представляешь, эту фотографию сделал
мой друг. Он пешком, за неделю один перешел Тибет.
Конечно, представляю: в этих горах от
французов никакого спасу нет.
В последний раз обнялись с Бароном.
Барон всем-всем помогает, поэтому очень одинок.
На 12 евро купил два килограмма
черешни. Съел немытой почти всю. Болит живот. Смотрю телевизор. Слушаю радио.
Полдня прошло.
Что такое «Супермаркет»? Многоэтажный лабиринт
прилавков, а под землей — многоэтажная, на сотни автомобилей, парковка. Средний
класс приезжает сюда раз в неделю с детьми и на весь день — это для многих
единственный способ социализации, выход в люди. Магазин заменяет все:
путешествие, театр, творчество.
Француз (из Якутии) просит написать
для него вопросы — мы планировали интервью для русского журнала.
Моя Франция — это древо обыденной
жизни да листья бумаги; я заполнил пустое, как все: черным по белому, белым по
черному.
Моя Россия — это древо обыденной жизни
да листья бумаги; я заполнил пустое, как все: белым по белому, черным по
черному.
Скоро зима.
Высокая, тонкая связь между людьми
таит в себе угрозу неожиданных «низких» поступков — ревности, вспышек
неудовольствия, резкого самоотторжения. Воздействие такое же, как если бы тело
избили: апатия, сердечная сдавленность, ломота. Несдержанность души ранит
сильнее, чем прямота поведения; в последнем случае просто больно, а с
поврежденной душой — жить тошно.
— Кто купил черешню?
— Я.
Хозяйка пришла и ушла, передернув
брезгливо плечами. Что к чему? Я с ненавистью смотрю на остатки черешни… Домой!
Домой! Пока я не умер в несобственном сне.
Вот уж вечер подходит, скоро лягу
спать. Завтра — последний день. Ах, Париж, Париж! Я ничего не видел, но я все
понял.
У кого ведь что болит, тот о том и
говорит. С точностью до наоборот. Говорят всегда о дефиците: русские любят
твердить о душе, французы о любви. Самообман объединяет людей куда сильнее, чем
правда.
Русское счастье — это мучения добровольно.
Свобода холостяка одинакова и перед
ним, и за ним; свобода семьянина имеет за спиной неприступную крепость. Поэтому
бедняк на богатого смотрит, защищаясь, — снисходительно.
До отлета осталось 37 часов 59 минут.
Никто не звонит.
В Париже холодно.
До отлета осталось 37 часов 56 минут.
Я люблю свой дом, своих детей, женщину
женщин — жену.
Жизнь не важна. Важно то, что она с
нами делает.
Кое-что набросал для Француза: переходя
через горы и тайгу, что ты «переходишь» в себе? все в жизни круг, какая сила
заставляет тебя двигаться? у каждого есть свои точки отсчета, успехов и неудач,
что находится между ними? почему среди французов так много первооткрывателей?
похожа ли Россия на магнит и что ты ждешь от своих опытов с этим «магнитом»?
путь к простоте очень сложен, в чем состоит твой? что ты слышишь, когда
молчишь, что ты видишь, когда глаза твои закрыты, не станет тебя, что заменит
тебе глаза и уши? сильные одиноки в своем пути, слабые — в неподвижности, что
из этого тебе знакомо? реальность от сна отличается лишь одним —
последовательностью (мысль Паскаля), в чем последовательность твоей жизни? о
чем ты думаешь, не зная, о чем ты знаешь, не думая? какой лжи ты боишься? кто
ты на земле?
До отлета — 35 часов 51 минута.
Язык не важен сам по себе. Важно, что
он приводит нас к молчанию.
Вера — это вечность внутри нас.
Трудность состоит не в лингвистическом
переводе, а в «переводе» тем на разговор с самим собой. Однажды, помнится,
написал: «Какое горе: разум — мотыльку!» Здесь я об этом думаю чаще, чем дома.
Разговор с самим собой — неожиданное «внутреннее освещение» внутреннего мира.
Подходящие слова от этого сюрприза обычно разбегаются кто куда, остаются лишь
самые слабые: даты, перечень предметов и мест, названия, имена…
Русская тоска французскую легко
обставит. От нашей беги хоть на все четыре стороны, а от французской — только в
Гималаи. Или в Россию.
Мотыльки во Франции счастливы. Вот что
обескураживает! Придется инвертировать: «Какое счастье: разум — мотыльку!»
Девы здесь, как курочки перед
духовкой, ножки ощипаны до последней пушинки, до глянцевого лоска; мода
диктует, промышленность крутится — люди послушно идут туда, откуда исходит
внушение. Как рыбки на искусственный сигнал. Внушение — инструмент браконьеров.
А что делать? Самовнушение не лучше. «Генераторы» снов состязаются: чей будет
громче, тот и реальность. (А у моей Родины ножка обыкновенная, живая. Доведись,
ей придется в штанах ходить среди модных курочек, а то ведь заклюют.)
Жизнь бесконечна благодаря быту.
В последний раз у Бена. Там-там похож
на странную сказочную помесь, как если бы на ступу Бабы Яги сверху упал
деревянный морской штурвал, обтянутый грязновато-серой кожей доброго молодца.
Земля — пространство замкнутое, точка
в бесконечном мире. Путешествия делают планету маленькой; неумение наслаждаться
мелькающей новизной могут подвести человека к предчувствию безысходности.
Когда французское время дойдет до нуля,
мое «место» опять начнет меняться. Для русского провинциала этот кульбит
сделать намного сложнее, чем среднему парижскому буржуа.
Непревзойденное «эсперанто»: молчание,
смерть и деньги — это то, что способно спаять всех и вся. Вера, надежда, любовь
— вот что логичных людей разобщает!
Француз любит себя в человечестве и
ненавидит человечество в себе. Он ездит в Россию, в страну этического
«беспредела» (этого слова пока нет в словарях) и духовных экспериментов над
людьми. Зачем? Чтобы лучше понять и почувствовать свою крепость, свой
несокрушимый тыл, свою Родину; жена Француза — Франция! Вот ведь до чего можно
дорассуждаться напоследок. Но это так: мужчина, сознательно или нет, выбирает в
качестве спутницы жизни идею, символику, музыку устремленности; а земная жена,
увы, чаще всего, вступает в спор с невидимой соперницей. Земная жена сильнее,
потому что ближе. Остановится пульс одержимости, ахнет тогда земное: «Ну-ка,
встряхнись!» Поздно. Бюргер сильнее, чем Бог. От горизонта до горизонта —
миллиарды мужских чучелиных распятий с горшком вместо головы.
Стемнело. Сквозь тонкие стены я слышу
соседей — это звуки общежития: поют, кричат, стучат швейной машинкой, шумят
унитазом. Квартал, где живет Бен, густо заселен арабами и неграми. Если эти
люди замолчат хотя бы минут на десять, их, наверное, разорвет от переизбытка
внутреннего давления. Русские северные эмоции выходят молчанием, а южные —
горлом.
Для чего я пишу? Воображаю, небось,
что мною, как авторучкой «пишутся» время и место. В общем, вопрос есть, а
ответа нет. Русского это подбадривает.
Рассвело. Уверенным жестом я открываю
кухонный шкаф Бена, кипячу воду и сыплю в нее порошок какао. Погода прекрасная:
летная! летная!
Высший пилотаж, мертвая петля,
самолетик моей жизни сделал ее… Отец, служивший во время войны в авиации,
говаривал: «Кто у летчика главный враг? Земля!» Эй, родная земля, ты меня
слышишь?
Совершенная сводила меня в музей,
чтобы никто не говорил, мол, вот, был в Париже, а музеи игнорировал. Это на
Пигаль. Это — музей секса. Пять этажей! Секс! Весь мир веками пристально
смотрел в эту непостижимую точку, откуда начинается каждая новая человечья
жизнь; многие боготворили секс, строили на этом культуру и философию. Древняя
Япония, Китай, Египет, Париж век назад — все есть в этом музее, что расположен
в знаменитом на весь мир квартале красных фонарей. Я был в музее! Я с видом
знатока, поправив очки на носу, разглядывал нечеловеческих размеров фаллосы из
черного дерева и слоновой кости, нечто женское всех мастей и видов… Совершенная
показала любимую свою скульптурку. Это Япония. Дерево и золото. Мужчина и
женщина.
Всего несколько тысяч экспонатов.
Апофеоз языческого поклонения.
Жарим на огне телячьи ребра и омаров,
заедаем арбузом, запиваем водой. Последняя ночь. Последние диалоги.
— Моя маленькая слава приносит мне мою
маленькую, но достаточную для меня зарплату, и я не хочу шагать выше.
— Большая слава — большая зарплата.
— Это риск «вертикальный», можно
вообще сорваться.
— Удовлетворена достигнутым?
— Да.
Впервые мы с Жизнью не понимаем друг
друга.
Эмигранты из России говорят о ней со
злобой. Это плохо, это их унижает.
Блеет будильник, прощаюсь со спящей
Совершенной, как видение.
— Я тебя очень люблю. Спасибо.
— Я тебя тоже.
Дорога. Рассвет. Полупустой самолет. Сижу
у окошечка.
Пора просыпаться. С добрым утром!

Все, теперь можно писать концовку и
предисловие. С чего начать? Начну с концовки.
Многие сюжеты случившейся жизни не
имеют литературной последовательности. И не могут иметь, потому что все было
правильно: события прирастали друг к другу так же, как образуется ствол дерева,
его веточки, его листья — от пробуждения зерна. Придут еще зимы и лета,
отбушуют ветры сезонов, недосчитается мое парижское древо многих ветвей,
сменятся на нем листья — литература бытия, прихотливо складывающаяся из
клеточек судеб, молекул дней, песчинок слов; литература бытия никогда не
закончится, потому что она не имеет завершенного сюжета. Так живет любое зерно:
разбуженное, оно забывает свой прежний сон. (Высота написания текста —
9 000 метров над уровнем Франции).
Теперь предисловие.
Действующие лица:
земляки —
земляки;
французы —
французы;
в эпизодах — эпизоды;
от автора —
автор.
Постскриптум
Россия! Только что отъехали с
Казанского. В купе поезда дальнего следования с объяснениями зашел проводник.
— У нас установлен биотуалет,
пользоваться можно и на остановках. В унитаз, пожалуйста, ничего не бросайте.
Надо же! В вагоне прохладно и свежо —
исправно работает агрегат искусственного климата. Пошел и я осмотреть новшество
в конце вагона. Действительно: белехонький унитаз, педаль нажимаешь — шпалы в
дырку не видны, как обычно, темно, внизу
биоконтейнер, по ободку откидного стульчака перемещается гигиенический
полиэтиленовый рукав. Все работает! А
рядом, а рядом… Ведро! Здоровенное помятое ведро, какие обычно выставляют в
деревенских сортирах щепетильные хозяева. Надпись над ведром: «Бумагу бросайте
сюда!» А из ведра, как нежное пенное бизе, поднимается навстречу невольному
взгляду ворох использованных бумажек. И стоят два объекта — загранунитаз и
русское ведро рядышком, как братья, и каждый при деле!
Я хохотал до икоты. Купе выслушало мои
сбивчивые комментарии. И сосед, латыш, произнес вдруг очень серьезно, безо
всякой иронии:
— Наконец-то европейская культура
начала встречаться с русской.
И
посвящение «после»:
Не
женам моим, а друзьям, Наталье и Веронике, посвящаю.
Теперь все. Точка.
****************************************
2004 г. Paris